


3. ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ.
(Элегия в прозе)1
<I>
Грибоедов. «Горе от ума».
Есть ли у вас хорошие
книги? — Нет, но у нас
есть великие писатели.— Так, по крайней мере,
у вас есть словесность? — Напротив, у нас есть
только книжная торговля.
Барон Брамбеус.
Помните ли вы то блаженное время когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим, и, гордые нашею действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов? Увы! где ты, о bon vieux temps,* где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель! Как всё переменилось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломились ходульки наших литературных атлетов, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вместе с тем умолкли, заснули, исчезли и те немногие и небольшие дарования, которыми мы так обольща
20
лись во время оно. Мы спали и видели себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев сии трогательные слова поэта:
Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней!1
Да — прежде — и ныне, тогда — и теперь! Великий боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовию, Пушкин — автор «Полтавы» и «Годунова» и Пушкин — автор «Анджело» и других мертвых, безжизненных сказок!2... Козлов— задумчивый певец страданий Чернеца, стоивших стольких слез прекрасным читательницам, этот слепец, так гармонически передававший нам бывало свои роскошные видения, и Козлов— автор баллад и других стихотворений, длинных и коротких, напечатанных в «Библиотеке для чтения», и о коих только и можно сказать, что в них всё обстоит благополучно, как уже было замечено в «Молве»!., какая разница!.. Много бы, очень много могли мы прибрать здесь таких печальных сравнений, таких горестных контрастов, но...словом, как говорит Ламартин:
Les dieux etaient tombes, les trones etaient vides!*
Какие же новые боги заступали вакантные места старых? Увы, они сменили их, не заменив! Прежде наши Аристархи,3 заносившиеся юными надеждами, всех обольщавшими в то время, восклицали в чаду детского, простодушного упоения: Пушкин—северный Байрон, представитель современного человечества! Ныне, на наших литературных рынках, наши неутомимые герольды вопиют громко: Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира!4, на колена перед Кукольником!** Теперь Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобишиных сменили гг. Тимофеевы, Ершовы; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице: на базлюдье и Фома дворянин. Первые или потчуют нас изредка старыми погудками на старый же лад, или хранят скромное молчание; последние размениваются комплиментами, называют друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей поэзии: это наш давнишний
21
порок; по крайней мере, прежде причиною этого было невинное обольщение, происходившее из благородного источника — любви к родному; ныне же решительно всё основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде еще и было чем похвастаться, ныне же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талант г-на Кукольника, мы всё-таки, не запинаясь, можем сказать утвердительно, что между Пушкиным и им, г-ном Кукольником, пространство неизмеримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина,
Как до звезды небесной далеко!1
Да — Крылов и г. Зилов, «Юрий Милославский» Загоскина и «Черная женщина» г-на Греча, «Последний Иовик» Лажечникова и «Стрельцы» г-на Масальского и «Мазепа» г-на Булгарина, повести Одоевского, Марлинского, Гоголя — и повести, с позволения сказать, г-на Брамбеуса!!!... Что всё это означает? Какие причины такой пустоты в нашей литературе? Или и в самом деле — у нас нет литературы?..
(Продолжение обещано).
<II>
Pas de grâce!
Hugo. «Marion de Lorme».*
Да — у нас нет литературы!
«Вот прекрасно! вот новость!» — слышу я тысячу голосов в ответ на мою дерзкую выходку.2 — А наши журналы, неусыпно подвизающиеся за нас на ловитве европейского просвещения, а наши альманахи, наполненные гениальными отрывками из недоконченных поэм, драм, фантазий, а наши библиотеки, битком набитые многими тысячами книг российского сочинения, а наши Гомеры, Шекспиры, Гёте, Вальтер Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корпели, Мольеры, Аристофаны? Разве мы не имеем Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитриева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского и пр. и пр. А! что вы на это скажете?»
А вот что, милостивые государи: хотя я и не имею чести быть бароном, но у меня есть своя фантазия, 3 вследствие которой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что наш Сумароков далеко оставил за собою в трагедиях господина Корнеля и господина Расина, а в притчах господина Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой славы россов, сравнялся с Гомером и Виргилием и под щитом Владимира и Иоанна4 по добру и здорову пробрался во храм бессмертия;** что наш Пушкин в самое короткое время успел стать наряду с Байроном и сделаться представителем челове
чества; несмотря на то, что наш неистощимый Фаддей Венедиктович Булгарин, истинный бич и гонитель злых пороков, уже десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится плутовать и мошенничать человеку comme il faut,* что пьянство и воровство суть грехи непростительные, и который своими нравоописательными и нравственно-сатирическими (не правильнее ли полицейскими) романами и народно-умористическими статейками на целые столетия двинул вперед наше гостеприимное отечество по части нравоисправления;1 несмотря на то, что наш юный лев поэзии, наш могущественный Кукольник, с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина Гёте и только со второго поотстал немного от Крюковского; несмотря на то, что наш достопочтенный Николай Иванович Греч (вкупе и влюбе с Фаддеем Венедиктовичем) разанатомировал, разнял по суставам наш язык и представил его законы в своей тройственной грамматике2 — этой истинной скинии завета, куда кроме его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Фаддея Венедиктовича, еще доселе не ступала нога ни одного профана; тот Николай Иванович Греч, который во всю жизнь свою не делал грамматических ошибок и только в своем дивном поэтическом создании — «Черная женщина» — еще в первый раз, по улике чувствительного князя Шаликова, поссорился с грамматикою, видно, увлекшись слишком разыгравшеюся фантазиею; несмотря на то, что наш г. Калашников заткнул за пояс Купера в роскошных описаниях безбрежных пустынь русской Америки — Сибири и в изображении ее диких красот; несмотря на то, что наш гениальный Барон Брамбеус своею толстою фантастическою книгою на смерть пришлепнул Шамполиона и Кювье, двух величайших шарлатанов и надувателей, которых невежественная Европа имела глупость почитать доселе великими учеными,3 а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, первого в мире остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убедительное и красноречивое опровержение нелепой мысли, будто у нас нет литературы, опровержение, так умно и сильно провозглашенное в «Библиотеке для чтения» глубокомысленным азиатским критиком Тютюнджи-Оглу;4 — несмотря на всё на это, повторяю: у нас нет литературы/.. Уф! устал! Дайте перевести дух — совсем задохнулся!.. Право, от такого длинного периода поперхнется в горле даже и у Барона Брамбеуса, который и сам мастак на великие периоды...
Что такое литература?
Одни говорят, что под литературою какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности,
23
проявившейся в письменности. Вследствие сего нашу, например, литературу составят: «История» Карамзина и «История» гг. Эмина и С. Н. Глинки, исторические розыскания Шлёцера, Эверса, Каченовского и статья г. Сенковского об исландских сагах,1 физики Велланского и Павлова и «Разрушение Коперниковой системы» с брошюркою о клопах и тараканах; «Борис Годунов» Пушкина и некоторые сцены из исторических драм со штями и анисовкою, оды Державина и «Александроида» г. Свечина и пр. Если так, то у нас есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менее того громкими сочинениями.
Другие под словом литература понимают собрание известного числа изящных произведений, то есть, как говорят французы, chefs-d'oeuvres de litterature* И в этом смысле у нас есть литература, ибо мы можем похвалиться большим или меньшим числом сочинений Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоедова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинского, кн. Одоевского и еще некоторых других. Но есть ли хотя один язык на свете, на коем бы не было скольких-нибудь образцовых художественных произведений, хотя народных песен? Удивительно ли, что в России, которая обширностию своею превосходит всю Европу, а народонаселением каждое европейское государство, отдельно взятое, удивительно ли, что в этой новой Римской империи явилось людей с талантами более, нежели, например, в какой-нибудь Сербии, Швеции, Дании и других крохотных земельках? Всё это в порядке вещей, и из всего этого еще отнюдь не следует, чтобы у нас была литература.
Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой литературы нет и не может быть скачков: напротив, в ней всё последовательно, всё естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния. Такая литература не может в одно и то же время быть и французскою, и немецкою, и английскою,
24
и итальянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу раз. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но увы! Как много есть пошлых истин, которые у нас должно твердить и повторять каждый день во всеуслышание! У нас, у которых так зыбки, так шатки литературные мнения, так темны и загадочны литературные вопросы; у нас, у которых один недоволен второю частию «Фауста», а другой в восторге от «Черной женщины», один бранит кровавые ужасы «Лукреции Борджиа», а тысячи услаждают себя романами гг. Булгарина и Орлова; у нас, у которых публика есть настоящее изображение людей после Вавилонского столпотворения, где
Один кричит арбуза,
А тот соленых огурцов;1
наконец, у нас, у которых так дешево продаются и покупаются лавровые венки гения, у которых всякая смышленость, вспо-моществуемая дерзостию и бесстыдством, приобретает себе громкую известность, нагло ругаясь над всем святым и великим человечества под какою-нибудь баронскою маскою; у нас, у которых купчая крепость на целую литературу и всех ее гениев доставляет тысячи подписчиков на иной торговый журнал; у нас, у которых нелепые бредни, воскрешающие собою позабытую ученость Тредьяковских и Эминых, громогласно объявляются всемирными статьями,2 долженствующими произвести решительный переворот в русской истории!.. Нет: пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви к отечеству, к добру и истине; не говорю познаний, ибо многие печальные опыты доказали нам, что, в деле истины, познания и глубокая ученость совсем не одно и то же с беспристрастием и справедливостию...
Итак, оправдывает ли наша словесность последнее определение литературы, приведенное мною? Чтобы решить этот вопрос, бросим беглый взгляд на ход нашей литературы от Ломоносова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее гения.
(Следующий листок покажет).
<III>
La verité! la verité! rien
plus que la verité!*
— «Как, что такое? Неужели обозрение?»— спрашивают меня испуганные читатели.
Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение, а похоже на то. Итак—silence!**—Но что я вижу? Вы морщи
25
тесь, пожимаете плечами, вы хором кричите мне: «Нет, брат, стара шутка — не надуешь... Мы еще не забыли и прежних обозрений, от которых нам жутко приходилось! Мы, пожалуй, наперед прочтем тебе наизусть всё то, о чем ты нам будешь проповедовать. Всё это мы и сами знаем не хуже тебя. Ведь ныне не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братье, не призванным обозревателям, морочить нас, бедных читателей, а теперь всякий обзавелся своим умишком и в состоянии толковать вкось и вкривь о том и о сем»...1
Что мне отвечать вам на это неизбежимое приветствие?.. Право, ума не приложу... Однако ж... прочтите, хоть так, от скуки — ведь ныне, знаете, нечего читать, так оно и кстати... Может быть—(ведь чем чорт не шутит!)—может быть, вы найдете в моем кратком — (слышите ли — кратком!) — обзоре если не слишком хитрые вещи, то и не слишком нелепые, если не слишком новые, то и не слишком истертые... Притом же ведь чего-нибудь да стоят правда, беспристрастие, благонамеренность... Что, не верите? — Отворачиваетесь от меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, бог с вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нет; ведь и то сказать, вольному воля!.. А впрочем, что же я расторговался с вами? Нет — прошу не погневаться: рады или не рады, а прочесть должны: зачем же грамоте учились? Итак, благословись, к делу!
Вы, почтенные читатели, может быть, ожидаете, что я, по похвальному обычаю наших многоученых и досужих Аристархов2 начну мое обозрение с начала всех начал—с яиц Леды,— дабы показать вам, какое влияние имели на русскую литературу создание мира, грехопадение первого человека, потом Греция, Рим, великое переселение народов, Атилла, рыцарство, крестовые походы, изобретение компаса, пороха, книгопечатание, открытие Америки, реформация, тридцатилетняя война и пр. и пр.? Вы, может статься, уже и не на шутку струхнули, ожидая, что я, без всякой вежливости, схвачу вас за ворот, потащу на пароход «Джон Буль» и на нем, как на волшебном ковре-самолете, полечу прямо в Индию, в эту дивную родину человечества, в эту чудную страну Гималаев, слонов, тигров, львов, удавов, обезьян, золота, каменьев и холеры; вы, может быть, думаете, что я изложу вам содержание «Рамайяны» и «Махабгараты», разберу неподражаемые красоты «Саконталы», обнаружу перед вами всё богатство этой многосложной и роскошной мифологии жрецов Магадевы и Шивы и распространюсь кстати о поразительном сходстве самскритского3 языка с славянским? Нет, милостивые государи, не обманывайте себя столь лестною надеждою: она не сбудется и, кажется, на вашу же радость, ибо — признаюсь вам откро
26
венно — священные письмена Вед для меня сущая тарабарская грамота, а поэм и драм индийских я не видывал даже и в переводах. Не ожидайте также, чтобы с берегов священного Гангеса я повел вас на цветущие берега Тигра и Евфрата, где младенец-человек разбил идолов и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкою рукою стал я срывать девственный покров с таинств древних магов или жрецов Озириса и Изиды на берегах многоводного Нила; не думайте, чтобы я завел вас мимоходом в пустыни Аравийские, чтобы на песчаном океане, у журчащего источника, под сению широколиственной пальмы объяснять вам седьмь славных Моаллакат. Правда, дорога в эти страны мне известна не меньше всех наших обозревателей; но боюсь пускаться с вами в такую даль: жалко вас — неравно устанете или собьетесь с пути. Не более того услышите от меня о Греции и ее изящной и богатой литературе; равным образом пройду роковым молчанием и вечный Рим. Нет — не бойтесь! Не хочу — подражая нашим прошедшим, настоящим, а может статься, и будущим обозревателям, которые всегда начинают на один лад, с яиц Леды, и оканчивают ровно ничем, которые, наскучив своим долговременным и скромным молчанием, принатужив свои умственные способности, одним разом высыпают из своих голов весь неистощимый запас своих огромных и разнообразных сведений и умещают его на нескольких страничках приятельского журнала или альманаха,— не хочу ворошить костями Гомеров и Виргилиев, Демосфенов и Цицеронов; и без меня довольно достается им бедненьким. Не только не стану наводить справок, с каких родов начали писать или петь первобытные поэты, с гимнов или молитв, но даже не разыграю вам никакой прелюдии о литературе средних и новых веков, а начну прямо с русской. Этого мало: не буду толковать даже и о блаженной памяти классицизме и романтизме: вечная им память!
Ну, решите сами, любезные читатели! не чудак ли я, да и только? Как, принять на себя важную должность обозревателя и не воспользоваться таким прекрасным случаем выказать свою глубокую ученость, взятую напрокат из русских журналов, высказать множество светлых, резких, хотя уже и давно всем известных и, как горькая редька, надоевших истин, сдобрить всю эту микстуру, весь этот винегрет намеками на то и на се, разукрасить его каламбурами и пестрым калейдоскопическим слогом, хотя бы наперекор здравому смыслу!.. Что, милостивые государи, вы удивляетесь? То-то же, ведь говорил вам: прочтите, авось не будете каяться... Подумайте хорошенько, а между тем еще раз повторю вам, что, к крайнему вашему огорчению, ничего этого не будет—а почему, о том читайте ниже — и дивитесь.
27
Во-первых: потому, что не хочу мучить вас зевотою, от которой и сам довольно страдаю.
Во-вторых: потому, что не хочу шарлатанить, то есть говорить свысока о том, чего не знаю, а если и знаю, то очень сбивчиво и неопределенно.
В-третьих: потому, что всё это прекрасно на своем месте, но к русской литературе, предмету моего обозрения, нимало не относится: надеюсь открыть ларчик гораздо проще.
В-четвертых: потому, что твердо помню премудрое правило бывшего нашего критика, блаженной памяти Никодима Аристарховича Надоумка, что глупо, для переезда через лужу на челноке, раскладывать перед собою морскую карту.1 Воля ваша, а я готов побожиться, что покойник говорил правду. Было время, когда все затыкали уши от его невежливых выходок против тогдашних гениев, а теперь все жалеют, что уже некому припугнуть хорошенько нынешних: изволь тут угодить на весь свет! Впрочем, я это сказал так, a propos* — спешу к началу.
Французы называют литературу выражением общества; это определение не ново: оно давно нам знакомо. Но справедливо ли оно? Это другой вопрос. Если под словом общество должно разуметь избранный круг образованнейших людей или, короче сказать, большой свет, beau monde, тогда это определение будет иметь свое значение, свой смысл, и смысл глубокий, но только у одних французов. Каждый народ, сообразно с своим характером, происходящим от местности, от единства или разнообразия элементов, из коих образовалась его жизнь, и исторических обстоятельств, при коих она развилась, играет в великом семействе человеческого рода свою особенную, назначенную ему провидением роль и вносит в общую сокровищницу его успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества. Таким образом, немцы завладели беспредельною областию умозрения и анализа, англичане отличаются практическою деятельностию, итальянцы художественным направлением. Немец всё подводит под общий взгляд, всё выводит из одного начала; англичанин переплывает моря, прокладывает дороги, проводит каналы, торгует со всем светом, заводит колонии и во всем опирается на опыте, на расчете; жизнь итальянца прежних времен была любовь и творчество, творчество и любовь. Направление французов есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вечно движущаяся. Немец творит мысль, открывает новую истину; француз ею пользуется, проживает, издерживает
28
ее, так сказать. Немцы обогащают человечество идеями, англичане изобретениями, служащими к удобствам жизни; французы дают нам законы моды, предписывают правила обхождения, вежливости, хорошего тона. Словом: жизнь француза есть жизнь общественная, паркетная; паркет есть его поприще, на котором он блистает блеском своего ума, познаний, талантов, остроумия, образованности. Для французов бал, собрание — то же, что для греков была площадь или игры олимпийские: это битва, турнир, где, вместо оружия, сражаются умом, остротою, образованностию, просвещением, где честолюбие отражается честолюбием, где много ломается копий, много выигрывается и проигрывается побед. Вот отчего ни один народ не может сравняться с французами в этой обходительности, в этой изящной ловкости и любезности, для выражения которых словами, опять-таки, способен только один французский язык; вот отчего все усилия европейских народов сравняться в сем отношении с французами всегда оставались тщетными; вот отчего все другие общества всегда были, суть и будут смешными карикатурами, жалкими пародиями, злыми эпиграммами на французское общество; вот почему, говорю я, это определение словесности, вследствие которого она должна быть выражением общества, так глубоко и верно у французов. Их литература всегда была верным отражением, зеркалом общества, всегда шла с ним рука об руку, забывая о массе народа, ибо их общество есть высочайшее проявление их народного духа, их народной жизни. Для писателей французских общество есть школа, в которой они учатся языку, заимствуют образ мыслей и которое они изображают в своих творениях. Совсем не так у других народов. В Германии, например, не тот учен, кто богат или вхож в лучшие дома и блистательнейшие общества; напротив, гений Германии любит чердаки бедняков, скромные углы студентов, убогие жилища пасторов. Там всё пишет или читает, там публика считается миллионами, а писатели тысячами; словом: там литература есть выражение не общества, но народа. Таким же образом, хотя и не вследствие таких же причин, литературы и других народов не суть выражение общества, но выражение духа народного; ибо нет ни одного народа, жизнь которого преимущественно проявлялась бы в обществе, и можно сказать утвердительно, что Франция составляет в сем случае единственное исключение. Итак, литература непременно должна быть выражением — символом внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть ее определение, но одно из необходимейших ее принадлежностей и условий. Прежде, нежели я буду говорить о России в сем отношении, почитаю необходимым изложить здесь мои понятия об искусстве вообще. Я хочу, чтобы читатели видели, с какой точки зрения смотрю
29
я на предмет, о котором вызвался судить, и вследствие каких причин я понимаю то или другое так, а не этак.
Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать, в свои светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы — пути млечные, а кровь — чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит — ив бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения... Кружится колесо времени с быстротою непостижимою, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся волканы, и зажигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ. Так — идея живет: мы ясно видим это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо всё предвидит, всё держит в равновесии; за наводнением и за лавою ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою чистоту и свежесть воздуха, в пустынях песчаной Аравии и Африки поселила верблюда и строуса, в пустынях ледяного севера поселила оленя. Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая: где же ее любовь? Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любови! Итак, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действование, а действование есть борьба; не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви. Итак, вот тебе две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для
30
истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!.. Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь из выгоды, не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами, рамена согни под грузом незаслуженных почестей и титл. Весела и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод или голод, что такое угнетение и оскорбление, всё будет трепетать тебя, везде покорность и услужливость, отвсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание, что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя! Какая тебе нужда, что в душе твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя и на светлом пиру и на мягком ложе сна, что тени погубленных тобою окружат твой болезненный одр, составят около него адскую пляску и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними, предсмертными страданиями, что перед твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтожения за гробом, мук вечных!.. Э, любезный мой, ты прав: жизнь — сон, и не увидишь, как пройдет!.. Зато весело поживешь, сладко поешь, мягко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это чего-нибудь да стоит! — Если же, при твоем рождении, природа возложила на твое чело печать гения, дала тебе вещие уста пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истины и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути. Сочувствуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатлений благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? тяжко?.. Ну, так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое вещее слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты вдохновения: покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах твое венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии,
31
о потомстве, довольствуйся тем, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон, Гёте!..
Вот нравственная жизнь вечной идеи. Проявление ее — борьба между добром и злом, любовию и эгоизмом, как в жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без действования нет жизни! Что представляют собою индивидуумы, то же представляет и человечество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потоки варваров, нахлынувших из Азии в Европу, вместо того, чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлеющий мир; из гнилого трупа Римской империи возникли мощные народы, сделавшиеся сосудом благодати... Что означают походы Александров, беспокойная деятельность Цезарей, Карлов? — Движение вечной идеи, которой жизнь состоит в беспрерывной деятельности...
Какое же назначение и какая цель искусства?.. Изображать, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни природы: вот единая и вечная тема искусства! Поэтическое одушевление есть отблеск творящей силы природы. Посему поэт более, нежели кто-либо другой, должен изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; более, нежели кто-либо другой, должен быть чист и девствен душою; ибо в ее святилище можно входить только с ногами обнаженными, с руками омовенными, с умом мужа и сердцем младенца, ибо только сии наследят царствие небесное, ибо только в гармонии ума и чувства заключается высочайшее совершенство человека!.. Чем выше гений поэта, тем глубже и обширнее обнимает он природу и тем с большим успехом представляет нам ее в ее высшей связи и жизни. Если Байрон взвесил ужас и страданье, если он постиг и выразил только муки сердца, ад души, это значит, что он постиг только одну сторону бытия вселенной, что он вырвал и показал нам только одну страницу оного. Шиллер передал нам тайны неба, показал одно прекрасное жизни, так, как он понимал его сам, пропел нам только свои заветные думы и мечтания; злое жизни у него или неверно, или искажено преувеличением; Шиллер в сем отношении равен Байрону. Но Шекспир, божественный, великий, недостижимый Шекспир, постиг и ад, и землю, и небо: царь природы, он взял равную дань и с добра и с зла и подсмотрел в своем вдохновенном ясновидении биение пульса вселенной! 1 Каждая его драма есть мир в миниатюре; у него нет, как у Шиллера, любимых идей, любимых героев. Посмотрите, как бесчеловечно смеется он над этим бедным Гамлетом, с замыслом гиганта и волею ребенка, который на каждом шагу падает под тяжестию подвига, предпринятого не по силам!..
32
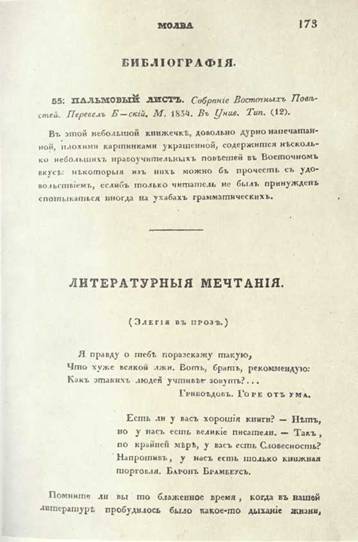
Начальная страница первопечатного текста «Литературных мечтаний». «Молва», 1834 г., № 38, стр. 173.
Спросите у Шекспира, спросите у этого царя чародеев: для чего сделал из Лира слабого, полуумного старичишку, а не идеал нежного отца, как Дюсис или Гнедич; для чего он представил в Макбете человека, сделавшегося злодеем по слабости характера, а не по влечению ко злу, а в Леди Макбет злодейку по чувству; для чего он сделал из Корделии нежную любящую дочь с мягким женским сердцем, а на ее сестер наслал фурий зависти, честолюбия и неблагодарности? Он сказал бы вам в ответ, что так бывает в мире, что иначе быть не может! — Да! это беспристрастие, эта холодность поэта, который как будто говорит вам: так было, а впрочем, мне какое дело! — есть высочайший зенит художественного совершенства, есть истинное творчество, есть удел немногих избранных, о коих говорят:
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье,
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.1
В самом деле, разве вы можете назвать то или другое явление прекрасным, а это безобразным без отношений?.. Разве не один и тот же дух божий создал кроткого агнца и кровожаждущего тигра, статную лошадь и безобразного кита, красавицу-черкешенку и урода-негра? Разве он больше любит голубя, чем ястреба, соловья, чем лягушку, газель, чем удава? Для чего же поэт должен изображать вам одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Ган Исландец может существовать в природе, то я, право, не понимаю, чем он хуже какого-нибудь Карла Моора или даже Маркиза Позы? Я люблю Карла Моора как человека, обожаю Позу как героя и ненавижу Гана Исландца как чудовище; но как создания фантазии, как частные явления общей жизни, они для меня все равно прекрасны. Если поэт изображает вам, подобно какому-нибудь капитану Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказывает, что кругозор его ума тесен, что его творческий гений ограничен, а ничуть не обнаруживает в нем дурного, безнравственного человека. Вот, когда он своими сочинениями старается заставить вас смотреть на жизнь с его точки зрения, в таком случае он уже и не поэт, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамеренный, достойный проклятия, ибо поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, дотоле он нравствен, дотоле он и поэт; но как скоро он предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование и заставляет меня сожалеть
3 В. Г. Белинский, т. I
33
о себе, если, при истинном таланте, имеет похвальную цель, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредных мыслей. Вам нравится ода «Бог» Державина? Но этот же Державин написал «Мельника».1 Вы осуждаете Пушкина за многие вольности в «Руслане и Людмиле»? Но этот же Пушкин создал вам «Бориса Годунова». Отчего же такие противоречия в их художественном направлении? Оттого, что они хорошо помнят правило:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песнью отвечай!2
Да — искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно разнообразных явлениях! Прекрасно было где-то сказано, что повесть есть краткий эпизод из бесконечной поэмы судеб человеческих! Под это определение повести подходят все роды художественных созданий. Всё искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который согревает ее. Наслаждение же изящным должно состоять в минутном забвении нашего я, в живом сочувствии с общею жизнию природы; и поэт всегда достигнет этой прекрасной цели, если его произведение есть плод возвышенного ума и горячего чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось из его души...
(Опять не кончилось).
<IV>
Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев!
Воскреснем ли; когда от чужевластья мод
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев!
«Горе от ума». Действие III.
Итак, теперь должно решить следующий вопрос: что такоt наша литература: выражение общества или выражение духа народного? Решение этого вопроса будет историею нашей литературы и вместе историею постепенного хода нашего общества со времени Петра Великого. Верный моему слову, я не буду говорить, с чего начинались литературы всех народов и как они
34
развивались, ибо это должно быть общим местом для всякого читающего человека.
Каждый народ, вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею жизнию одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит. Односторонность вредна для всякого человека, в частности, вредна для всего человечества. Когда весь мир сделался Римом, когда все народы начали мыслить и чувствовать по-римски, тогда прервался ход человеческого ума, ибо для него уже не стало более цели, ибо ему казалось, что он уже дошел до геркулесовских столбов своего поприща. Утомленный властелин мира опочил на своих лаврах: жизнь его кончилась, ибо кончилась его деятельность, стремление к которой проявлялось у него только в одних беспутных оргиях. Он сделал ужасную ошибку, думая, что вне Рима, наследовавшего, по праву завоевания, сокровища греческого образования, нет мира, нет света, нет просвещения! Бедственное заблуждение! Оно было одною из важнейших причин нравственной смерти сего великого колосса. Для обновления человечества надобно было, чтобы этот хаос смерти и тления огласился благодатным словом сына человеческого: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!» Надобно было, чтобы толпы варваров разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своим мечом на множество могуществ, приняли слово и пошли каждый своим особенным путем к единой цели.
Да — только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели; только живя самобытною жизнию, может каждый народ принесть свою долю в общую сокровищницу. В чем же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в обычаях. Все эти обстоятельства чрезвычайно важны, тесно соединены между собою и условливают друг друга, и все проистекают из одного общего источника — причины всех причин — климата и местности. Между сими отличиями каждого народа обычаи играют едва ли не самую важную роль, составляют едва ли не самую характеристическую черту оных. Невозможно представить себе народа без религиозных понятий, облеченных в формы богослужения; невозможно представить себе народа, не имеющего одного общего для всех сословий языка; но еще менее возможно представить себе народ, не имеющий особенных, одному ему свойственных обычаев. Эти обычаи состоят в образе одежды, прототип которой находится в климате страны; в формах домашней и общественной жизни, причина коих скры-
35
3*
вается в верованиях, поверьях и понятиях народа, в формах обращения между неделимыми государствами, оттенки которых проистекают от гражданских постановлений и различия сословий. Все эти обычаи укрепляются давностию, освящаются временем и переходят из рода в род, от поколения к поколению, как наследие потомков от предков. Они составляют физиономию народа, и без них народ есть образ без лица, мечта, небывалая и несбыточная. Чем младенчественнее народ, тем резче и цветнее его обычаи, и тем большую полагает он в них важность; время и просвещение подводят их под общий уровень; но они могут изменяться не иначе, как тихо, незаметно, и притом один по одному. Надобно, чтобы сам народ добровольно отказывался от некоторых из них и принимал новые; но и тут своя борьба, свои битвы на смерть, свои староверы и раскольники, классики и романтики. Народ крепко дорожит обычаями, как своим священнейшим достоянием, и посягательство на внезапную и решительную реформу оных без своего согласия почитает посягательством на свое бытие. Посмотрите на Китай: там масса народа исповедует несколько различных вер; высшее сословие, мандарины не знают никакой и только из приличия исполняют религиозные обряды; но какое у них единство и общность обычаев, какая самостоятельность, особность и характерность! Как упорно они их держатся! Да, обычаи — дело святое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кроме силы обстоятельств и успехов в просвещении! Человек, самый развратный, закоренелый в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренно смеясь над ними. Разрушьте их внезапно, не заменив тотчас же новыми, и вы разрушите все опоры, разорвете все связи общества, словом, уничтожите народ. Почему это так? Потому же самому, почему рыбе привольно в воде, птице в воздухе, зверю на земле, гадине под землею. Народ, насильственно введенный в чуждую ему сферу, похож на связанного человека, которого бичом понуждают к бегу. Всякий народ может перенимать у другого, но он необходимо налагает печать собственного гения на эти займы, которые у него принимают характер подражаний. В этом-то стремлении к самостоятельности и оригинальности, проявляющемся в любви к родным обычаям, заключается причина взаимной ненависти у народов младенчествующих. Вследствие сей-то причины русский называл бывало немца нехристыо, а турок еще и теперь почитает поганым всякого франка и не хочет есть с ним из одного блюда: религия в сем случае играет не исключительно главную роль.
На востоке Европы, на рубеже двух частей мира, провидение поселило народ, резко отличающийся от своих западных соседей. Его колыбелью был светлый юг; меч азиатца-русса
36
дал ему имя; издыхающая Византия завещала ему благодатное слово спасения; оковы татарина связали крепкими узами его разъединенные части, рука ханов спаяла их его же кровию; Иоанн III научил его бояться, любить и слушаться своего царя, заставил его смотреть на царя как на провидение, как на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей воле и признающую над собою единую божию волю. И этот народ стал хладен и спокоен, как снега его родины, когда мирно жил в своей хижине; быстр и грозен, как небесный гром его кроткого, но палящего лета, когда рука царя показывала ему врага; удал и разгулен, как вьюги и непогоды его зимы, когда пировал на своей воле; неповоротлив и ленив, как медведь его непроходимых дебрей, когда у него было много хлеба и браги; смышлен, сметлив и лукав, как кошка, его домашний пенат, когда нужда учила его есть калачи. Крепко стоял он за церковь божию, за веру праотцев, непоколебимо был верен батюшке царю православному; его любимая поговорка была: мы все божии да царевы. Бог и царь, воля божия и воля царева слились в его понятия воедино. Свято хранил он простые и грубые нравы прадедов и от чистого сердца почитал иноземные обычаи дьявольским навождением. Но этим и ограничивалась вся поэзия его жизни: ибо ум его был погружен в тихую дремоту и никогда не выступал из своих заветных рубежей; ибо он не преклонял колен перед женщиною, и его гордая и дикая сила требовала от ней рабской покорности, а не сладкой взаимности; ибо быт его был однообразен, ибо только буйные игры и удалая охота оцветляли этот быт; ибо только одна война возбуждала всю мощь его хладной, железной души, ибо только на кровавом раздолье битв она бушевала и веселилась на всей своей воле. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная. В то время, когда деятельная, кипучая жизнь старейших представителей человеческого рода двигалась вперед с пестротою неимоверною, они ни одним колесом не зацеплялись за пружины ее хода. Итак, этому народу надобно было приобщиться к общей жизни человечества, составить часть великого семейства человеческого рода. И вот у этого народа явился царь, мудрый и великий, кроткий без слабости, грозный без тиранства; он первый заметил, что немецкие люди не басурманы, что у них есть много такого, что пригодилось бы и его подданным, есть много такого, что им совершенно ни к чему не годится. И вот он начал ласкать людей немецких и прикармливать их своим хлебом-солью, указал своим людям перенимать у них их хитрые художества. Он построил ботик и хотел пуститься в море, доселе для его народа страшное и неведомое; он приказал заморским комедиантам тешить свое царское величество, крепко-накрепко заказав между тем
37
православному русскому человеку, под опасением лишения носа, нюхать табак, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что в его время Русь впервые почуяла у себя заморский дух, которого дотоле было видом не видать, слыхом не слыхать. И вот умер этот добрый царь, а на престол взошел юный сын его, который, подобно богатырям Владимировых времен, еще в детстве бросал за облака стопудовые палицы, гнул их руками, ломал их о коленки. Это была олицетворенная мощь, олицетворенный идеал русского народа в деятельные мгновения его жизни; это был один из тех исполинов, которые поднимали на рамена свои шар земной. Для его железной воли, не знавшей препон, была только одна цель — благо народа. Задумал он думу крепкую, а задумать для него значило — исполнить. Увидел чудеса и дива заморские и захотел пересадить их на родную почву, не думая о том, что эта почва была слишком еще жестка для иноземных растений, что не по них была и зима русская; увидел он вековые плоды просвещения и захотел в одну минуту присвоить их своему народу. Подумано — сказано, сказано — сделано: русский не любит ждать. Ну — русский человек, снаряжайся, по царскому наказу, боярскому приказу, по немецкому маниру...1 Прочь, достопочтенные окладистые бороды! Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружало, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили огромные парики, осыпанные мукою! Простите, долгополые охабни наших бояр, выложенные, обшитые серебром и золотом! Вас заменили кафтаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный, поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугом повойник — простой, чародейский наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц! Тебя заменили робы с фижмами, роброндами и длинными, предлинными хвостами! Белила и румяна, потеснитесь немножко, дайте место черным мушкам! Простите и вы, заунывные русские песни, и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уж нашим красавицам голубками, не заливаться соловьем, не плавать по полу павами! Нет! Пошли арии и романсы с выводом верхних ноток:
…… бог мой!
Приди в чертог ко мне златой! 2
пошла живописная ломка в менуэтах, сладострастное круженье в вальсах...
И всё завертелось, всё закружилось, всё помчалось стремглав. Казалось, что Русь в тридцать лет хотела вознаградить
38
себя за целые столетия неподвижности. Будто по манию волшебного жезла, маленький ботик царя Алексея превратился в грозный флот императора Петра, непокорные дружины стрельцов в стройные полки. На стенах Азова была брошена перчатка Порте: горе тебе, луна двурогая! На полях Лесного и берегах Ворсклы был жестоко отомщен позор Нарвской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорезывать девственную почву земли русской, зашевелилась торговля, застучали молоты, захлопали станы: зашевелилась промышленность!
Да — много было сделано великого, полезного и славного! Петр был совершенно прав: ему некогда было ждать. Он знал, что ему не два века жить, и потому спешил жить, а жить для него значило творить. Но народ смотрел иначе. Долго он спал, и вдруг могучая рука прервала его богатырский сон: с трудом раскрыл он свои отяжелевшие вежды и с удивлением увидел, что к нему ворвались чужеземные обычаи, как незваные гости, не снявши сапог, не помолясь святым иконам, не поклонившись хозяину; что они вцепились ему в бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали с него величественную одежду и надели шутовскую, исказили и испестрили его девственный язык и нагло наругались над святыми обычаями его праотцев, над его задушевными верованиями и привычками; увидел — и ужаснулся... Неловко, непривычно и неподручно было русскому человеку ходить, заложа руки в карманы; он спотыкался, подходя к ручкам дам, падал, стараясь хорошенько расшаркнуться. Заняв формы европеизма, он сделался только пародиею европейца. Просвещение, подобно заветному слову искупления, должно приниматься с благоразумною постепенностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святых, праотеческих нравов: таков закон провидения!.. Поверьте, что русский народ никогда не был заклятым врагом просвещения, он всегда готов был учиться; только ему нужно было начать свое учение с азбуки, а не с философии, с училища, а не с академии. Борода не мешает считать звезды: это известно в Курске.1
Какое ж следствие вышло из всего этого? Масса народа упорно осталась тем, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука гения. Что ж это за обще-тво? Я не хочу вам много говорить об нем: прочтите «Недоросля», «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Дворянские выборы» и новый роман Лажечникова, когда он выйдет; прочтите, и вы узнаете его сами лучше меня...2
Так по крайней мере, давайте ж нам ваше обозрение русской литературы, которое вы сулите в каждом номере «Молвы» и которого мы еще по сию пору не видали! Судя по таким огром-
39
ным приступам, мы страх боимся, чтобы оно не было длиннее и скучнее «Фантастического путешествия» Барона Брамбеуса.
Я и сам не знаю, любезные читатели, как оно будет длинно. Может быть, из него выйдет и преуморительный уродец: избушка на курьих ножках, царь с ноготок, борода с локоток, а голова с пивной котел. Что делать, не я первый, не я последний; у нас это так в моде. Впрочем, если мои приступы не отбили у вас охоты увидеть заключение, если вы имеете столько терпения читать, сколько я писать, то увидите начало, а может быть, и конец моего обозрения.
(В следующем листке)
<V>
Вперед, вперед, моя исторья!
Пушкин.
Итак, народ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней, грубой и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в коих изливалась его душа в горе и в радости; второе же видимо изменялось, если не улучшалось, забыло всё русское, забыло даже говорить русский язык,1 забыло поэтические предания и вымыслы своей родины, эти прекрасные песни, полные глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе литературу, которая была верным его зеркалом. Надобно заметить, что как масса народа, так и общество подразделились, особливо последнее, на множество видов, на множество степеней. Первая показала некоторые признаки жизни и движения в сословиях, находившихся в непосредственных сношениях с обществом, в сословиях людей городских, ремесленников, мелких торговцев и промышленников. Нужда и соперничество иноземцев, поселившихся в России, сделали их деятельными и оборотливыми, когда дело шло о выгоде; заставили их покинуть старинную лень и запечную недвижимость и пробудили стремление к улучшениям и нововведениям, дотоле для них столь ненавистным; их фанатическая ненависть к немецким людям ослабевала со дня на день и, наконец, теперь совсем исчезла; они кое-как понаучились даже грамоте и крепче прежнего уцепились обеими руками за мудрое правило, завещанное им от праотцев: ученье свет, а неученье тьма. Это обещает много хорошего в будущем, тем более, что сии сословия ни на волос не утратили своей народной физиономии. Что касается до нижнего слоя общества, т. е. среднего состояния, оно разделилось в свою очередь на множество родов и видов, между коими по своему большинству занимают самое видное место так называе-
40
мые разночинцы. Это сословие наиболее обмануло надежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось на железные гроши, свою русскую смышленость и сметливость обратило на предосудительное ремесло толковать указы; выучившись кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородные экзекуции. Высшее ж сословие общества из всех сил ударилось в подражание или, лучше сказать, передражниванье иностранцев...
Но не о том дело. Говорят, что музы любят тишину и боятся грома оружия: мысль совершенно ложная! Однако как бы то ни было, а царствование Петра оглашалось одними проповедями, которые остались только в памяти ученых, а не народа; ибо это пестрое, мозаическое красноречие или, скорее, разноречие, было не что иное, как дурной прививок от гнилого дерева католического схоластицизма западного духовенства, а не живой убедительный голос святых истин религии. Оно у нас еще не было рассмотрено и оценено настоящим образом. Если верить возгласам наших литературных учителей, то в духовном красноречии мы едва ли не превосходим всех европейских народов. Не берусь решать этого вопроса, ибо говорю о нем мимоходом, à propos* как о деле, не прямо относящемся к предмету моего обзора; да и сверх того я мало знаком с памятниками нашего духовного красноречия, которое, конечно, не без удачных опытов.
Не стану также распространяться о Кантемире; скажу только, что я очень сомневаюсь в его поэтическом призвании. Мне кажется, что его прославленные сатиры были скорее плодом ума и холодной наблюдательности, чем живого и горячего чувства. И диво ли, что он начал с сатир — плода осеннего, а не с од — плода весеннего? Он был иностранец, следовательно, не мог сочувствовать народу и разделять его надежд и опасений; ему было спола-горя смеяться. Что он был не поэт, этому доказательством служит то, что он забыт. Старинный слог! Пустое!..1 Шекспира сами англичане читают с комментариями.
Тредьяковский не имел ни ума, ни чувства, ни таланта. Этот человек был рожден для плуга или для топора; но судьба, как бы в насмешку, нарядила его во фрак: удивительно ли, что он был так смешон и уродлив?2
Да — первые попытки были слишком слабы и неудачны. Но вдруг, по прекрасному выражению одного нашего соотечественника, на берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов.3 Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком
41
состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца; но вместе с тем, говорю, это утешительное явление подтвердило, к нашему несчастию, и ту неопровержимую истину, что ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника, что гений народа всегда робок и связан, когда действует не своеобразно, не самостоятельно, что его произведения, в таком случае, всегда будут походить на поддельные цветы: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим. Нужно ли говорить, что это был человек великий и ознаменованный печатию гения? Всё это истина несомненная. Нужно ли доказывать, что он дал направление, хотя и временное, нашему языку и нашей литературе? Это еще несомненнее. Но какое направление? Это другой вопрос. Я не скажу ничего нового о сем предмете и только, может быть, повторю более или менее известные мысли.
Но прежде всего почитаю нужным сделать следующее замечание. У нас, как я уже и говорил, еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения! Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни прослыть выскочкою, романтиком. Посмотрите, как поступают в сем случае иностранцы: у них каждому писателю воздается по делам его; они не довольствуются сказать, что в драмах г. N N есть много прекрасных мест, хотя есть стишки негладкие и некоторые погрешности, что оды г. N N превосходны, но элегии слабы. Нет, у них рассматривается весь круг деятельности того или другого писателя, определяется степень его влияния на современников и потомство, разбирается дух его творений вообще, а не частные красоты или недостатки, берутся в соображение обстоятельства его жизни, дабы узнать, мог ли он сделать больше того, что сделал, и объяснить, почему он делал так, а не этак; и уже, по соображении всего этого, решают, какое место он должен занимать в литературе и какою славою должен пользоваться. Читателям «Телескопа» должны быть знакомы многие подобные критические биографии знаменитых писателей. Где ж они у нас? Увы!..1 Сколько раз, например, слышали мы, что «Вечернее» и «Утреннее размышление
42
о величестве божием» Ломоносова прекрасны, что строфы его од звучны и величественны, что периоды его прозы полны, круглы и живописны; но определена ли мера его заслуг, показаны ли вместе с светлыми его сторонами и темные пятна? Нет — как можно! грешно, дерзко, неблагодарно!.. Где же критика, имеющая предметом образование вкуса, где истина, долженствующая быть дороже всех на свете авторитетов?..
Много сведений, опытности, труда и времени нужно для достойной оценки такого человека, каков был Ломоносов. Недостаток времени и места, а может быть, и сил не позволяют входить мне в слишком подробные исследования: ограничусь одним общим взглядом. Ломоносов — это Петр нашей литературы: вот, кажется мне, самый верный взгляд на него. В самом деле, не замечаете ли вы поразительного сходства в образе действования сих великих людей, равно как и в следствиях сего образа действования? На берегах Северного океана, в царстве зимы и смерти, родился у бедного рыбака сын. Ребенка мучит какой-то неведомый демон, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, шепчет ему на ухо какие-то дивные речи, от которых сильнее трепещет его сердце, жарче кипит его кровь; на что ни взглянет этот ребенок, ему хочется знать: откуда это, почему и как; бесконечные вопросы давят и тяготят его юную душу — и нет ответов! Он выучивается кое-как грамоте; тайные внушения его докучного демона раздаются в его душе, как обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манят его в туманную даль...1 И вот он оставляет отца своего и бежит в Москву белокаменную. Беги, беги, юноша! Там узнаешь ты всё, там утолишь в источнике знания свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнее — ты только пуще раздражил ее. Дальше, дальше, смелый юноша! Туда, в ученую Германию, там сады райские, а в тех садах древо жизни, древо познания, древо добра и зла... Сладки плоды его — спеши вкусить их... И он бежит, он вступает в очаровательные сады и видит искусительное древо, и жадно пожирает плоды его. Сколько чудес, сколько очарований! Как жалеет он, что не может разом всего захватить с собою и перенести в драгое отечество, в святую родину!.. Однако ж... нельзя ли как попытаться?.. Ведь он русский, стало быть, ему всё под силу, всё возможно; ведь его ожидает Шувалов: стало быть, ему нечего страшиться предрассудков, врагов и завистников!.. И вот Русь оглашается одами, смотрит на трагедии, восхищается эпопеею, смеется над побасенками, слушает Цицерона и Демосфена и важно рассуждает об электричестве и громовых отводах: чего же медлить? Не правда ли, что и сам Петр воскликнул бы с удовольствием: это по-нашему! Но и с Ломоносовым сбылось то же, что с Петром. Прельщенный блеском иноземного
43
просвещения, он закрыл глаза для родного. Правда, он выучил в детстве наизусть варварские вирши Симеона Полоцкого, но оставил без внимания народные песни и сказки. Он как будто и не слыхал о них. Замечаете ли вы в его сочинениях хотя слабые следы влияния летописей и вообще народных преданий земли русской? Нет — ничего этого не бывало. Говорят, что он глубоко постиг свойства языка русского! Не спорю — его «Грамматика» дивное, великое дело. Но для чего же он пялил и корчил русский язык на образец латинского и немецкого? Почему каждый период его речей набит без всякой нужды таким множеством вставочных предложений и завострен на конце глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разгаданный сим великим человеком? Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими законами. И в сем последнем случае нельзя довольно надивиться гению Ломоносова: у него есть строфы и целые стихотворения, которые по чистоте и правильности языка весьма приближаются к нынешнему времени. Следовательно, его погубила слепая подражательность; следовательно, она одна виною, что его никто не читает, что он не признан и забыт народом и что о нем помнят одни записные литераторы. Некоторые говорят, что он был великий ученый и великий оратор, но совсем не поэт; напротив, он был больше поэт, чем оратор; скажу больше: он был великий поэт и плохой оратор. Ибо что такое его похвальные слова? Набор громких слов и общих мест, частию взятых напрокат из древних витий, частию принадлежащих ему, плоды заказной работы, где одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выражение горячего, живого и неподдельного чувства, которое одно бывает источником истинного красноречия. Некоторые места, прекрасные по слогу, ничего не доказывают: дело в том, каково целое. И удивительно ли, что так случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся в красноречии, а тем меньше тогда нуждались в нем; следовательно, оно родилось без всякой нужды, из одной подражательности, и потому не могло быть удачным. Но стихотворения Ломоносова носят на себе отпечаток гения. Правда, у него и в них ум преобладает над чувством, но это происходило не от чего иного, как от того, что жажда к знанию поглощала всё существо его, была его господствующею страстью. Он всегда держал свою энергическую фантазию в крепкой узде холодного ума и не давал ей слишком разыгрываться. Вольтер сказал, помнится, о Корнеле, что он в сочинении своих трагедий похож на великого Конде, который хладнокровно обдумывал планы сражений и горячо сражался: вот Ломоносов! От этого-то его стихотворения имеют характер ораторский, от этого-то сквозь призму их
44
радужных цветов часто виден сухой остов силлогизма. Это происходило от системы, а отнюдь не от недостатка поэтического гения. Система и рабская подражательность заставила его написать прозаическое «Письмо о пользе стекла», две холодные и надутые трагедии и, наконец, эту неуклюжую «Петриаду», которая была самым жалким заблуждением его мощного гения.1 Он был рожден лириком, и звуки его лиры там, где он не стеснял себя системою, были стройны, высоки и величественны...
Что сказать о его сопернике, Сумарокове? Он писал во всех родах, в стихах и прозе, и думал быть русским Вольтером. Но при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни искры его таланта. Вся его художническая деятельность была не что иное, как жалкая и смешная натяжка. Он не только не был поэт, но даже не имел никакой идеи, никакого понятия об искусстве, и всего лучше опроверг собой странную мысль Бюффона, что будто гений есть терпение в высочайшей степени.2 А между тем этот жалкий писака пользовался такою на-родностию! Наши словесники не знают, как и благодарить его за то, что он был отцом российского театра. Почему ж они отказывают в благодарности Тредьяковскому за то, что он был отцом российской эпопеи! Право, одно от другого не далеко ушло. Мы не должны слишком нападать на Сумарокова за то, что он был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались в нем его современники; на безрыбье и рак рыба, следовательно, это извинительно, тем более, что он был не художник. Вот другое дело ныне... Конечно, смешно и жалко видеть, как иные мальчики заставляют в плохих драмах пророчествовать великих поэтов о своем пришествии в мир.3
(Просят обождать еще).
<VI>
Была пора. Екатеринин век,
В нем ожила всей древней Руси слава:
Те дни, когда громил Царьград Олег,
И выл Дунай под лодкой Святослава;
Рымник, Чесма, Кагульский бой,
Орлы во граде Леонида;
Возобновленная Таврида,
День Измаила роковой,
И в Праге, кровью залитой,
Москвы отмщенная обида!
Жуковский.
Воцарилась Екатерина Вторая, и для русского народа наступила эра новой, лучшей жизни. Ее царствование — это эпопея, эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величествен
45
ная и смелая по созданию, обширная и полная по плану, блестящая и великолепная по изложению, эпопея, достойная Гомера или Тасса! Ее царствование — это драма, драма многосложная и запутанная по завязке, живая и быстрая по ходу действия, пестрая и яркая по разнообразию характеров, греческая трагедия по царственному величию и исполинской силе героев, создание Шекспира по оригинальности и самоцветности персонажей, по разнообразности картин и их калейдоскопической подвижности, наконец, драма, зрелище которой исторгнет у вас невольно крики восторга и радости! С удивлением и даже с какою-то недоверчивостию смотрим мы на это время, которое так близко к нам, что еще живы некоторые из его представителей; которое так далеко от нас, что мы не можем видеть его ясно без помощи телескопа истории; которое так чудно и дивно в летописях мира, что мы готовы почесть его каким-то баснословным веком. Тогда в первый еще раз после царя Алексия проявился дух русский во всей своей богатырской силе, во всем своем удалом разгулье и, как говорится, пошел писать. Тогда-то народ русский, наконец освоившийся кое-как с тесными и не свойственными ему формами новой жизни, притерпевшийся к ним и почти помирившийся с ними, как бы покорясь приговору судьбы неизбежной и непреоборимой — воле Петра, в первый раз вздохнул свободно, улыбнулся весело, взглянул гордо — ибо его уже не гнали к великой цели, а вели с его спросу и согласия, ибо умолкло грозное слово и дело, и вместо его раздается с трона голос, говоривший: «Лучше прощу десять виновных, нежели накажу одного невинного; мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы живем для нашего народа; сохрани боже, чтобы какой-нибудь народ был счастливее российского»; ибо с «Уставом о рангах» и «Дворянскою грамотою» соединилась неприкосновенность прав благородства; ибо, наконец, слух Руси лелеется беспрестанными громами побед и завоеваний. Тогда-то проснулся русский ум, и вот заводятся школы, издаются все необходимые для первоначального обучения книги, переводится всё хорошее со всех европейских языков; разыгрался русский меч, и вот потрясаются монархии в своем основании, сокрушаются царства и сливаются с Русью!..
Знаете ли, в чем состоял отличительный характер века Екатерины II, этой великой эпохи, этого светлого момента жизни русского народа? Мне кажется, в народности. Да — в народности, ибо тогда Русь, стараясь попрежнему подделываться под чужой лад, как будто на зло самой себе, оставалась Русью. Вспомните этих важных радушных бояр, домы которых походили на всемирные гостиницы, куда приходил званый и незваный и, не кланяясь хлебосольному хозяину, садился за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья
46
медовые; этих величавых и гордых вельмож, которые любили жить нараспашку, жилища которых походили на царские палаты русских сказок, которые имели свой штат царедворцев, поклонников и ласкателей, которые сожигали фейерверки из облигаций правительства; которые умели попировать и повеселиться по старинному дедовскому обычаю, от всей русской души, но умели и постоять за свою матушку и мечом и пером: не скажете ли вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригинальное? Вспомните этого Суворова, который не знал войны, но которого война знала; Потемкина, который грыз ногти на пирах и, между шуток, решал в уме судьбы народов; этого Безбородко, который, говорят, с похмелья читал матушке на белых листах дипломатические бумаги своего сочинения; этого Державина, который в самых отчаянных своих подражаниях Горацию, против воли, оставался Державиным и столько же походил на Августова поэта, сколько походит могучая русская зима на роскошное лето Италии: не скажете ли вы, что каждого из них природа отлила в особенную форму и, отливши, разбила вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальным и самостоятельным, не будучи народным?.. Отчего же это было так? Оттого, повторяю, что уму русскому был дан простор, оттого, что гений русский начал ходить с развязанными руками, оттого, что великая жена умела сродниться с духом своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всем русским до того, что сама писала разные сочинения на русском языке, дирижировала журналом и за презрение к родному языку казнила подданных ужасною казнию — «Телемахидою»!..1
Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднее и дивнее было это общество! Какая смесь, пестрота, разнообразие! Сколько элементов разнородных, но связанных, но одушевленных единым духом! Безбожие и изуверство, грубость и утонченность, материализм и набожность, страсть к новизне и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, роскошь и довольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие характеры всех цветов и образов и, между ними, Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французский двор своею светскою образованностию, и дворянство, выходившее с холопями на разбой!..
И это общество отразилось в литературе; два поэта, впрочем, весьма неравные гением, преимущественно были выражением оного: громозвучные песни Державина были символом могущества, славы и счастия Руси; едкие и остроумные карикатуры Фонвизина были органом понятий и образа мыслей образованнейшего класса людей тогдашнего времени.
Державин — какое имя!.. Да — он был прав: только Навин
47
могло быть ему под рифму!1 Как идет к нему этот полурусский и полутатарский наряд, в котором изображают его на портретах:2 дайте ему в руки лилейный скипетр Оберона, придайте к этой собольей шубе и бобровой шапке длинную седую бороду: и вот вам русский чародей, от дыхания которого тают снега и ледяные покровы рек и расцветают розы, чудным словам которого повинуется послушная природа и принимает все виды и образы, каких ни пожелает он! Дивное явление! Бедный дворянин, почти безграмотный, дитя по своим понятиям; неразгаданная загадка для самого себя; откуда получил он этот вещий, пророческий глагол, потрясающий сердца и восторгающий души, этот глубокий и обширный взгляд, обхватывающий природу во всей ее бесконечности, как обхватывает молодой орел мощными когтями трепещущую добычу? Или и в самом деле он повстречал на перепутье какого-нибудь шестикрылого херувима?3 Или и в самом деле огненное чувство ставит в иные минуты смертного, без всяких со стороны его усилий, наравне с природою, и, послушная, она открывает ему свои таинственные недра, дает ему подсмотреть биение своего сердца и почерпать в лоне источника жизни эту живую воду, которая влагает дыхание жизни и в металл и в мрамор? Или и в самом деле огненное чувство дает смертному всезрящие очи и уничтожает его в природе, а природу уничтожает в нем, и, ее всемощный властелин, он повелевает ею самовластно и, вместе с нею, раскидывается, по своей воле, подобно Протею, на тысячи прекрасных явлений, воплощается в тысячи волшебных образов и те образы называет потом своими созданиями!.. Державин — это полное выражение, живая летопись, торжественный гимн, пламенный дифирамб века Екатерины, с его лирическим одушевлением, с его гордостию настоящим и надеждами на будущее, его просвещением и невежеством, его эпикуреизмом и жаждою великих дел, его пиршественною праздностию и неистощимою практическою деятельностию! Не ищите в звуках его песен, то смелых и торжественных, как гром победы, то веселых и шутливых, как застольный говор наших прадедов, то нежных и сладостных, как голос русских дев, не ищите в них тонкого анализа человека со всеми изгибами его души и сердца, как у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенных мечтаний о святой и великой жизни, как у Шиллера, или бешеных воплей души пресыщенной и всё еще несытой, как у Байрона: нет — нам тогда некогда было анатомировать природу человеческую, некогда было углубляться в тайны неба и жизни, ибо мы тогда были оглушены громом побед, ослеплены блеском славы, заняты новыми постановлениями и преобразованиями; ибо тогда нам еще некогда было пресытиться жизнию, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь; итак, не ищите
48
ничего этого у Державина! Поищите лучше у него поэтической вести о том, как велика была несравненная, богоподобная Фелица киргиз-кайсацкия орды, как этот ангел во плоти разливал и сеял повсюду жизнь и счастие и, подобно богу, творил всё из ничего;1 как были мудры ее слуги верные, ее советники усердные; как герой полуночи, чудо-богатырь, бросал за облака башни, как бежала тьма от его чела и пыль от его молодецкого посвисту, как под его ногами трещали горы и кипели бездны, как пред ним падали города и рушились царства, как он, при громах и молниях, при ужасной борьбе разъяренных стихий, сокрушил твердыни Измаила или перешел чрез пропасти Сент-Готара;2 как жили и были вельможи русские с своим неистощимым хлебом-солью, с своим русским сибаритством и русским умом; как русские девы своими пламенными взорами и соболиными бровями разят души львов и сердца орлов, как блестят их белые чела златыми лентами, как дышат их нежные груди под драгими жемчугами, как сквозь их голубые жилки переливается розовая кровь, а на ланитах любовь врезала огневые ямки!3
Невозможно исчислить неисчислимых красот созданий Державина. Они разнообразны, как русская природа, но все отличаются одним общим колоритом: во всех них воображение преобладает над чувством, и всё представляется в преувеличенных, гиперболических размерах. Он не взволнует вашей груди сильным чувством, не выдавит слезы из ваших глаз, но, как орел добычу, схватывает вас внезапно и неожиданно и на крылах своих могучих строф мчит прямо к солнцу и, не давая вам опомниться, носит по беспредельным равнинам неба; земля исчезает у вас из виду, сердце сжимается от какого-то приятного изумления, смешанного со страхом, и вы видите себя как бы ринутыми порывом урагана в неизмеримый океан; волна то увлекает вас в бездны, то выбрасывает к небу, и душе вашей отрадно и привольно в этой безбрежности. Как громка и величественна его песнь богу! Как глубоко подсмотрел он внешнее благолепие природы и как верно воспроизвел его в своем дивном создании! И однако ж он прославил в нем одну мудрость и могущество божие и только намекнул о любви божией, о той любви, которая воззвала к человекам: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!», о той любви, которая с позорного креста мучения взывала к отцу: «отче, отпусти им: не ведят бо, что творят!» Но не осуждайте его за это: тогда было не то время, что ныне, тогда был осьмнадцатый век. Притом же не забудьте, что ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством патриотизм, что в сем случае он был
4 В. Г. Белинский, т. I
49
только верен своему бессознательному направлению и, следовательно, был истинен. Как страшна его ода «На смерть Мещерского»: кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженною ратью,1 когда в ушах ваших раздается вещий бой глагола времен, когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках! Какою энергическою и дикою красотою дышит его «Водопад»: это песнь угрюмого севера, пропетая сребровласым скальдом во глубине священного леса, среди мрачной ночи, у пылающего дуба, зажженного молниею, при оглушающем реве водопада! Его послания и сатиры представляют совсем другой мир, не менее прекрасный и очаровательный. В них видна практическая философия ума русского; посему главное отличительное их свойство есть народность, народность, состоящая не в подборе мужицких слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи. В сем отношении Державин народен в высочайшей степени. Как смешны те, которые величают его русским Пиндаром, Горацием, Анакреоном; ибо самая эта тройственность показывает, что он был ни то, ни другое, ни третье, но всё это вместе взятое, и, следовательно, выше всего этого отдельно взятого! Не так же ли нелепо было бы назвать Пиндара или Анакреона греческим или Горация латинским Державиным, ибо если он сам не был ни для кого образцом, то и для себя не имел никого образцом?2 Вообще надобно заметить, что его невежество было причиною его народности, которой, впрочем, он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был оригинален и народен, сам не зная того. Обладай он всеобъемлющею ученостию Ломоносова — и тогда прости, поэт! Ибо, чего доброго? он пустился бы, пожалуй, в трагедии и, всего вернее, в эпопею: его неудачные опыты в драме доказывают справедливость такого предположения. Но судьба спасла его — и мы имеем в Державине великого, гениального русского поэта, который был верным эхом жизни русского народа, верным отголоском века Екатерины II.
Фонвизин был человек с необыкновенным умом и дарованием; но был ли он рожден комиком — на это трудно отвечать утвердительно. В самом деле, видите ли вы в его драматических созданиях присутствие идеи вечной жизни! Ведь смешной анекдот, преложенный на разговоры, где участвует известное число скотов,—еще не комедия. Предмет комедии не есть исправление нравов или осмеяние каких-нибудь пороков общества; нет: комедия должна живописать несообразность жизни с целию, должна быть плодом горького негодования, возбуждаемого унижением человеческого достоинства, должна быть сарказмом, а не эпиграммою, судорожным хохотом, а не веселою
50
усмешкою, должна быть писана желчью, а не разведенною солью, словом, должна обнимать жизнь в ее высшем значении, то есть в ее вечной борьбе между добром и злом, любовию и эгоизмом. Так ли у Фонвизина? Его дураки очень смешны и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а слишком верные списки с натуры; его умные суть не иное что, как выпускные куклы, говорящие заученные правила благонравия; и всё это потому, что автор хотел учить и исправлять. Этот человек был очень смешлив от природы: он чуть не задохнулся от смеху, слыша в театре звуки польского языка, он был в Франции и Германии и нашел в них одно смешное: вот вам и комизм его. Да — его комедии суть не больше, как плод добродушной веселости, над всем издевавшейся, плод остроумия, но не создание фантазии и горячего чувства. Они явились впору и потому имели необыкновенный успех; были выражением господствующего образа мыслей образованных людей и потому нравились. Впрочем, не будучи художественными созданиями в полном смысле этого слова, они всё-таки несравненно выше всего, что ни написано у нас по сию пору в сем роде, кроме «Горя от ума», о котором речь впереди. Одно уже это доказывает дарование сего писателя. Прочие его сочинения имеют цену еще, может быть, большую, но и в них он является умным наблюдателем и остроумным писателем, а не художником. Насмешка и шутливость составляют их отличительный характер. Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу, который очень близко подходит к Ка-рамзинскому; особенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие черты духа того любопытного времени.
Как забыть о Богдановиче? Какою славою пользовался он при жизни, как восхищались им современники и как еще восхищаются им и теперь некоторые читатели? Какая причина этого успеха? Представьте себе, что вы оглушены громом, трескотнею пышных слов и фраз, что все окружающие вас говорят монологами о самых обыкновенных предметах, и вы вдруг встречаете человека с простою и умною речью: не правда ли, что вы бы очень восхитились этим человеком? Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всех громким одопением; уже начинали думать, что русский язык неспособен к так называемой легкой поэзии, которая так цвела у французов, и вот в это-то время является человек с сказкою, написанною языком простым, естественным и шутливым, слогом, по тогдашнему времени, удивительно легким и плавным: все были изумлены и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки», которая, впрочем, не без достоинств, не без таланта. Скромный Хемницер был не понят современниками: им по справедливости гордится теперь потомство и ставит его
51
4*
наравне с Дмитриевым. Херасков был человек добрый, умный, благонамеренный и, по своему времени, отличный версификатор, но решительно не поэт. Его дюжинные «Россияда» и «Владимир» долго составляли предмет удивления для современников и потомков, которые величали его русским Гомером и Виргилием и проводили во храм бессмертия под щитом его длинных и скучных поэм;1 пред ним благоговел сам Державин, но, увы! ничто не спасло его от всепоглощающих волн Леты! Петров недостаток истинного чувства заменял напыщенностию и совершенно доконал себя своим варварским языком. Княжнин был трудолюбивый писатель и, в отношении к языку и форме, не без таланта, который особенно заметен в комедиях. Хотя он целиком брал из французских писателей, но ему и то уже делает большую честь, что он умел из этих похищений составлять нечто целое, и далеко превзошел своего родича Сумарокова. Костров и Бобров были в свое время хорошие версификаторы.
Вот все гении века Екатерины Великой; все они пользовались громкою славою, и все, за исключением Державина, Фонвизина и Хемницера, забыты. Но все они замечательны как первые действователи на поприще русской словесности; судя по времени и средствам, их успехи были важны и преимущественно происходили от внимания и ободрения монархини, которая всюду искала талантов и всюду умела находить их. Но между ними только один Державин был таким поэтом, имя которого мы с гордостию можем поставить подле великих имен поэтов всех веков и народов, ибо он один был свободным и торжественным выражением своего великого народа и своего дивного времени.
(До следующего листка).
<VII>
Amicus Plato, sеd magis amica veritas*
Первые действователи на поприще литературы никогда не забываются; ибо, талантливые или бездарные, они в обоих случаях лица исторические. Не в одной истории французской литературы имена Ронсаров, Гарнье и Гарди всегда предшествуют именам Корнелей и Расинов. Счастливые люди! как дешево достается им бессмертие! В предшествовавшей статье моей я впал в непростительную ошибку, ибо, говоря о поэтах и писателях века Екатерины II, забыл о некоторых из них. Посему
52
теперь почитаю непременным долгом исправить мою ошибку и упомянуть о Поповском, порядочном стихотворце и прозаике своего времени; Майкове, который своими созданиями, относившимися во времена оны во всех пиитах к какому-то роду комических поэм, не мало способствовал к распространению в России дурного вкуса и заставил знаменитого нашего драматурга, кн. Шаховского, написать довольно невысокое стихотворение под названием: «Расхищенные шубы»; Аблесимове, который как будто ненарочно или по ошибке, между многими плохими драмами, написал прекрасный народный водевиль «Мельник», произведение, столь любимое нашими добрыми дедами и еще и теперь не потерявшее своего достоинства; Рубане, которому, по милости и доброте наших литературных судей былых времен, бессмертие досталось за самую дешевую цену; Нелединском, в песнях которого сквозь румяны сентиментальности проглядывало иногда чувство и блестки таланта; Ефимьеве и Плавильщикове, некогда почитавшихся хорошими драматургами, но теперь, увы! совершенно забытых, несмотря на то, что и сам почтенный Николай Иванович Греч не отказывал им в некоторых будто бы достоинствах. Кроме сего, царствование Екатерины II было ознаменовано таким дивным и редким у нас явлением, которого, кажется, еще долго не дождаться нам, грешным. Кому не известно, хотя по наслышке, имя Новикова? Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и, смею сказать, великом человеке! У нас всегда так: кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, бездарном писателе, и забывают о благодетельных подвигах человека, которого вся жизнь, вся деятельность была направлена к общей пользе!..
Век Александра Благословенного, как и век Екатерины Великой, принадлежит к светлым мгновениям жизни русского народа и, в некотором отношении, был его продолжением. Это была жизнь беспечная и веселая, гордая настоящим, полная надежд на будущее. Мудрые узаконения и нововведения Екатерины укоренились и, так сказать, окрепли; новые благодетельные учреждения царя юного и кроткого упрочивали благосостояние Руси и быстро двигали ее вперед на поприще преуспеяния. В самом деле, сколько было сделано для просвещения! Сколько основано университетов, лицеев, гимназий, уездных и приходских училищ! И образование начало разливаться по всем классам народа, ибо оно сделалось более или менее доступным для всех классов народа. Покровительство просвещенного и образованного монарха, достойного внука Екатерины, отыскивало повсюду людей с талантами и давало им дорогу и средства действовать на избранном ими поприще. В это время еще впервые появилась мысль о необходимости иметь свою литературу. В Царствование Екатерины литература существовала только
53
при дворе; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его «Послание к Фелице» и «Вельможа»; плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она не смеялась до слез над его «Бригадиром» и «Недорослем»; мало бы оказывалось уважения к певцу «Бога» и «Водопада», если бы он не был действительным тайным советником и разных орденов кавалером. При Александре все начали заниматься литературою, и титул стал отделяться от таланта. Явилось явление новое и доселе неслыханное: писатели сделались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать язык и литературу. Но, увы! не было прочности и основательности в этих попытках; ибо попытка всегда предполагает расчет, а расчет предполагает волю, а воля часто идет наперекор обстоятельствам и разногласит с законами здравого смысла. Много было талантов и ни одного гения, и все литературные явления рождались не вследствие необходимости, непроизвольно и бессознательно, не вытекали из событий и духа народного. Не спрашивали: что и как нам должно было делать? Говорили: делайте так, как делают иностранцы, и вы будете хорошо делать. Удивительно ли после того, что, несмотря на все усилия создать язык и литературу, у нас не только тогда не было ни того ни другого, но даже нет и теперь! Удивительно ли, что при самом начале литературного движения у нас было так много литературных школ и не было ни одной истинной и основательной; что все они рождались как грибы после дождя, и исчезали, подобно мыльным пузырям; и что мы, еще не имея никакой литературы, в полном смысле сего слова, уже успели быть и классиками и романтиками, и греками и римлянами, и французами и итальянцами, и немцами и англичанами?..
Два писателя встретили век Александра и справедливо почитались лучшим украшением начала оного: Карамзин и Дмитриев. Карамзин — вот актер нашей литературы, который еще при первом своем дебюте, при первом своем появлении на сцену, был встречен и громкими рукоплесканиями и громким свистом! Вот имя, за которое было дано столько кровавых битв, произошло столько отчаянных схваток, переломлено столько копий! И давно ли еще умолкли эти бранные вопли, этот звук оружия, давно ли враждующие партии вложили мечи в ножны и теперь силятся объяснить себе, из чего они воевали? Кто из читающих строки сии не был свидетелем этих литературных побоищ, не слышал этого оглушающего рева похвал преувеличенных и бессмысленных, этих порицаний, частию справедливых, частию нелепых? И теперь, на могиле незабвенного мужа, разве уже решена победа, разве восторжествовала та или другая сторона? Увы! еще нет! С одной стороны, нас, как «верных сынов отчизны»,
54
призывают «молиться на могиле Карамзина» и «шептать его святое имя»,1 а с другой — слушают это воззвание с недоверчивой и насмешливою улыбкою. Любопытное зрелище! Борьба двух поколений, не понимающих одно другого! И в самом деле, не смешно ли думать, что победа останется на стороне гг.Иванчиных-Писаревых, Сомовых и т. п.? Еще нелепее воображать, что ее упрочит за собою г. Арцыбашев с братиею.2
Карамзин... mais je reviens toujours à mes moutons...* Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствований вкуса? Литературное идолопоклонство! Дети, мы еще всё молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать? Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествующих обществ. Помните ли вы, чего стоили Мерзлякову его критические отзывы о Хераскове?4 Помните ли, как пришлись г. Каченовскому его замечания на «Историю государства российского», эти замечания старца, в коих было высказано почти всё, что говорили потом об истории Карамзина юноши? Да — много, слишком много нужно у нас бескорыстной любви к истине и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетик, не только что авторитет: разве приятно вам будет, когда вас во всеуслышание ославят ненавистником отечества, завистником таланта, бездушным зоилом, желтяком?5 И кто же? Люди, почти безграмотные, невежды, ожесточенные против успехов ума, упрямо держащиеся за свою раковинную скорлупку, когда всё вокруг них идет, бежит, летит! И не правы они в сем случае? Чего остается ожидать для себя, например, г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений, и другие подобные безбожные мнения? Они, которые питались крохами, падавшими с трапезы этого человека, и на них основывали здание своего бессмертия? Является г. Арцыбашев с критическими статейками, в коих доказывает, что Карамзин часто и притом без всякой нужды отступал от летописей, служивших ему источниками, часто по своей воле или прихоти искажал их смысл; и что же? — Вы думаете, поклонники Карамзина тотчас принялись за сличку и изобличили г. Арцыбашева в клевете? Ничего не бывало. Странные люди! К чему вам толковать о зависти и зоилах, о каменщиках и скульпторах, к чему вам бросаться на пустые, ничтожные фразы в сносках, сражаться с тенью и шуметь из ничего? Пусть г. Арцыбашев и завидует славе Карам-
55
зина: поверьте, ему не убить этим Карамзина, если он пользуется заслуженною славою; пусть он с важностию доказывает, что слог Карамзина неподобозвучен — бог с ним — это только смешно, а ничуть не досадно. Не лучше ли вам взять в руки летописи и доказать, что или г. Арцыбашев клевещет, или промахи историка незначительны и ничтожны, а не то совсем ничего не говорить? Но, бедные, вам не под силу этот труд, вы и в глаза не видывали летописей, вы плохо знаете историю:
Так из чего же вы беснуетеся столько?1
Однако ж, что ни говори, а таких людей, к несчастию, много.
И вот общественное мненье!
И вот на чем вертится свет!2
Карамзин отметил своим именем эпоху в нашей словесности; его влияние на современников было так велико и сильно, что целый период нашей литературы от девяностых до двадцатых годов по справедливости называется периодом Карамзинским. Одно уже это достаточно доказывает, что Карамзин, по своему образованию, целою головою превышал своих современников. За ним еще и по сию пору, хотя нетвердо и неопределенно, кроме имени историка, остаются имена писателя, поэта, художника, стихотворца. Рассмотрим его права на эти титла. Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто из нас не утешался в детстве его повестями, не мечтал и не плакал с его сочинениями? А ведь воспоминания детства так сладостны, так обольстительны: можно ли тут быть беспристрастным? Однако ж попытаемся.
Представьте себе общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала, говорила,[1] мыслила и молилась богу на французском языке; другая знала наизусть Державина и ставила его наравне не только с Ломоносовым, но и с Петровым, Сумароковым и Херасковым; первая очень плохо знала русский язык; вторая была приучена к напыщенному, схоластическому языку автора «Россияды» и «Кадма и Гармонии»; общий же характер обеих состоял из полудикости и полуобразованности; словом, общество с охотою к чтению, но без всяких светлых идей об литературе. И вот является юноша, душа которого была отверзта для всего благого и прекрасного, но который, при счастливых дарованиях и большом уме, был обделен просвещением и ученою образованностию, как увидим ниже. Не ставши наравне с своим веком, он был несравненно выше своего общества. Этот юноша смотрел на жизнь, как на подвиг, и, полный сил юности, алкал славы авторства, алкал чести быть споспешествователем успехов отечества на пути к просвещению, и вся его жизнь была этим святым и прекрасным подвижничеством. Не правда ли, что
56
Карамзин был человек необыкновенный, что он достоин высокого уважения, если не благоговения? Но не забывайте, что не должно смешивать человека с писателем и художником. Будь сказано, впрочем, без всякого применения к Карамзину, этак, чего доброго! и Роллень попадет во святые. Намерение и исполнение — две вещи различные. Теперь посмотрим, как выполнил Карамзин свою высокую миссию.
Он видел, как мало было у нас сделано, как дурно понимали его собратия по ремеслу, что должно было делать, видел, что высшее сословие имело причину презирать родным языком, ибо язык письменный был в раздоре с языком разговорным. Тогда был век фразеологии, гнались за словами и мысли подбирали к словам только для смысла. Карамзин был одарен от природы верным музыкальным ухом для языка и способностию объясняться плавно и красно, следовательно, ему не трудно было преобразовать язык. Говорят, что он сделал наш язык сколком с французского, как Ломоносов сделал его сколком с латинского; это справедливо только отчасти. Вероятно, Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников. Но он исправил эту ошибку в своей «Истории». Карамзин предположил себе целию — приучить, приохотить русскую публику к чтению. Спрашиваю вас: может ли призвание художника согласиться с какой-нибудь заранее предположенною целию, как бы ни была прекрасна эта цель? Этого мало: может ли художник унизиться, нагнуться, так сказать, к публике, которая была бы ему по колена и потому не могла бы его понимать? Положим, что и может; тогда другой вопрос: может ли он в таком случае остаться художником в своих созданиях? Без всякого сомнения, нет. Кто объясняется с ребенком, тот сам делается на это время ребенком. Карамзин писал для детей и писал по-детски: удивительно ли, что эти дети, сделавшись взрослыми, забыли его и, в свою очередь, передали его сочинения своим детям? Это в порядке вещей: дитя с доверчивостию и с горячею верою слушал рассказы своей старой няни, водившей его на помочах, о мертвецах и привидениях, а выросши смеется над ее рассказами. Вам поручен ребенок: смотрите ж, что этот ребенок будет отроком, потом юношей, а там и мужем, и потому следите за развитием его дарований и, сообразно с ним, переменяйте методу вашего ученья, будьте всегда выше его; иначе вам худо будет: этот ребенок станет в глаза смеяться над вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то он перегонит вас: дети растут быстро. Теперь скажите, по совести, sine ira et studio,* как гово-
57
рят наши записные ученые: кто виноват, что как прежде плакали над «Бедною Лизою», так ныне смеются над нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорее соглашусь читать повести Барона Брамбеуса, чем «Бедную Лизу» или «Наталью, боярскую дочь»! Другие времена, другие нравы! Повести Карамзина приучили публику к чтению, многие выучились по ним читать; будем же благодарны их автору; но оставим их в покое, даже вырвем их из рук наших детей, ибо они наделают им много вреда: растлят их чувство приторною чувствительностию.
Кроме сего, сочинения Карамзина теряют в наше время много достоинства еще и оттого, что он редко был в них искренен и естествен. Век фразеологии для нас проходит; по нашим понятиям фраза должна прибираться для выражения мысли или чувства; прежде мысль и чувство приискивались для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрешны в этом отношении; по крайней мере, теперь, если легко выставить мишуру за золото, ходули ума и потуги чувства за игру ума и пламень чувства, то не надолго, и чем живее обольщение, тем бывает мстительнее разочарование; чем больше благоговения к ложному божеству, тем жесточайшее поношение наказывает самозванца. Вообще ныне как-то стало откровеннее; всякий истинно образованный человек скорее сознается, что он не понимает той или другой красоты автора, но не станет обнаруживать насильственного восхищения. Посему ныне едва ли найдется такой добренький простачок, который бы поверил, что обильные потоки слез Карамзина изливались от души и сердца, а не были любимым кокетством его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная ложность и натянутость чувства тем жалостнее, когда автор человек с дарованием. Никто не подумает осуждать за подобный недостаток, например, чувствительного кн. Шаликова, потому что никто не подумает читать его чувствительных творений. Итак, здесь авторитет не только <не> оправдание, но еще двойная вина. В самом деле, не странно ли видеть взрослого человека, хотя бы этот человек был сам Карамзин, не странно ли видеть взрослого человека, который проливает обильные источники слез и при взгляде на кривой глаз великого мужа грамматики, и при виде необозримых песков, окружающих Кале, и над травками, и над муравками, и над букашками и таракашками?.. Ведь и то сказать:
Не всё нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!1
Эта слезливость или, лучше сказать, плаксивость нередко портит лучшие страницы его истории. Скажут: тогда был такой
58
век. Неправда: характер осьмнадцатого столетия отнюдь не состоит в одной плаксивости; притом же здравый смысл старше всех столетий, а он запрещает плакать, когда хочется смеяться, и смеяться, когда хочется плакать. Это просто было детство смешное и жалкое, мания странная и неизъяснимая.
Теперь другой вопрос: столько ли он сделал, сколько мог, или меньше? Отвечаю утвердительно: меньше. Он отправился путешествовать: какой прекрасный случай предстоял ему развернуть пред глазами своих соотечественников великую и обольстительную картину вековых плодов просвещения, успехов цивилизации и общественного образования благородных представителей человеческого рода!.. Ему так легко было это сделать! Его перо было так красноречиво! Его кредит у современников был так велик! И что ж он сделал вместо всего этого? Чем наполнены его «Письма русского путешественника»? Мы узнаем из них, по большой части, где он обедал, где ужинал, какое кушанье подавали ему и сколько взял с него трактирщик; узнаем, как г. Б*** волочился за г-жою N и как белка оцарапала ему нос; как восходило солнце над какою-нибудь швейцарскою деревушкою, из которой шла пастушка с букетом роз на груди и гнала перед собою корову... Стоило ли из этого ездить так далеко?.. Сравните в сем отношении «Письма русского путешественника» с «Письмами к вельможе» Фонвизина,— письмами, написанными прежде: какая разница! Карамзин виделся со многими знаменитыми людьми Германии, и что же он узнал из разговоров с ними? То, что все они люди добрые, наслаждающиеся спокойствием совести и ясностию духа. И как скромны, как обыкновенны его разговоры с ними! Во Франции он был счастливее в сем случае, по известной причине: вспомните свидание русского скифа с французским Платоном.1 Отчего же это произошло? Оттого, что он не приготовился надлежащим образом к путешествию, что не был учен основательно. Но, несмотря на это, ничтожность его «Писем русского путешественника» происходит больше от его личного характера, чем от недостатка в сведениях. Он не совсем хорошо знал нужды России в умственном отношении. О стихах его нечего много говорить: это те же фразы, только с рифмами. В них Карамзин, как и везде, является преобразователем языка, а отнюдь не поэтом.
Вот недостатки сочинений Карамзина, вот причина, что он так был скоро забыт, что он едва не пережил своей славы. Справедливость требует заметить, что его сочинения там, где он не увлекается сентиментальностию и говорит от души, дышат какою-то сердечною теплотою; это особенно заметно в тех местах, где он говорит о России. Да, он любил добро, любил отечество, служил ему сколько мог; имя его бессмертно, но сочинения его, исключая «Истории», умерли, и не воскреснуть им, несмотря на
59
все возгласы людей, подобных гг. Иванчину-Писареву и Оресту Сомову!..
«История государства российского» есть важнейший подвиг Карамзина; он отразился в ней весь со всеми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить о сем произведении ученым образом, ибо, признаюсь откровенно, этот труд был бы далеко не под силу мне. Мое мнение (весьма не новое) будет мнением любителя, а не знатока. Сообразив всё, что было сделано для систематической истории до Карамзина, нельзя не признать его труда подвигом исполинским. Главный недостаток оного состоит в его взгляде на вещи и события, часто детском и всегда, по крайней мере, не мужеском; в ораторской шумихе и неуместном желании быть наставительным, поучать там, где сами факты говорят за себя; в пристрастии к героям повествования, делающем честь сердцу автора, но не его уму. Главное достоинство его состоит в занимательности рассказа и искусном изложении событий, нередко в художественной обрисовке характеров, а более всего в слоге, в котором Карамзин решительно торжествует здесь. В сем последнем отношении у нас и по сию пору не написано еще ничего подобного. В «Истории государства российского» слог Карамзина есть слог русский по преимуществу; ему можно поставить в параллель только в стихах «Бориса Годунова» Пушкина. Это совсем не то, что слог его мелких сочинений; ибо здесь автор черпал из родных источников, упитан духом исторических памятников; здесь его слог, за исключением первых четырех томов, где по большей части одна риторическая шумиха, но где всё-таки язык удивительно обработан, имеет характер важности, величавости и энергии и часто переходит в истинное красноречие. Словом, по выражению одного нашего критика, в «Истории государства российского» языку нашему воздвигнут такой памятник, о который время изломает свою косу.1 Повторяю: имя Карамзина бессмертно, но сочинения его, исключая «Историю», уже умерли и никогда не воскреснут !..
Почти в одно время с Карамзиным выступил на литературное поприще и Дмитриев (И. И.). Он был в некотором отношении преобразователь стихотворного языка, и его сочинения, до Жуковского и Батюшкова, справедливо почитались образцовыми. Впрочем, его поэтическое дарование не подвержено ни малейшему сомнению. Главный элемент его таланта есть остроумие, посему «Чужой толк» есть лучшее его произведение. Басни его прекрасны; им недостает только народности, чтоб быть совершенными. В сказках же Дмитриев не имел себе соперника. Кроме сего, его талант возвышался иногда до лиризма, что доказывается прекрасным его произведением «Ермак» и особенно переводом, подражанием или переделкою (назовите как
60
угодно) пьесы Гёте, которая известна под именем «Размышления по случаю грома»...
Крылов возвел у нас басню до nec plus ultra* совершенства. Нужно ли доказывать, что это гениальный поэт русский, что он неизмеримо возвышается над всеми своими соперниками? Кажется, в этом никто не сомневается. Замечу только, впрочем, не я первый, что басня оттого имела на Руси такой чрезвычайный успех, что родилась не случайно, а вследствие нашего народного духа, который страх как любит побасенки и применения. Вот самое убедительнейшее доказательство того, что литература непременно должна быть народною, если хочет быть прочною и вечною! Вспомните, сколько было у иностранцев неудачных попыток перевести Крылова. Следовательно, те жестоко ошибаются, которые думают, что только рабским подражанием иностранцам можно обратить на себя их внимание.
Озерова у нас почитают и преобразователем и творцом русского театра. Разумеется, он ни то, ни другое; ибо русский театр есть мечта разгоряченного воображения наших добрых патриотов. Справедливо, что Озеров был у нас первым драматическим писателем с истинным, хотя и не огромным талантом; он не создал театра, а ввел к нам французский театр, т. е. первый заговорил истинным языком французской Мельпомены. Впрочем, он не был драматиком в полном смысле сего слова: он не знал человека. Приведите на представление Шекспировой или Шиллеровой драмы зрителя без всяких познаний, без всякого образования, но с природным умом и способностию принимать впечатления изящного: он, не зная истории, хорошо поймет, в чем дело; не понявши исторических лиц, прекрасно поймет человеческие лица; но когда он будет смотреть на трагедию Озерова, то решительно ничего не уразумеет. Может быть, это общий недостаток так называемой классической трагедии. Но Озеров имеет и другие недостатки, которые происходили от его личного характера. Одаренный душою нежною, но не глубокою, раздражительною, но не энергическою, он был не способен к живописи сильных страстей. Вот отчего его женщины интереснее мужчин; вот отчего его злодеи ни больше, ни меньше, как олицетворение общих родовых пороков; вот отчего он из Фингала сделал аркадского пастушка и заставил его объясняться с Моиною мадригалами, скорее приличными какому-нибудь Эрасту Чертополохову, чем грозному поклоннику Одена. Лучшая его пьеса, без сомнения, есть «Эдип», а худшая «Дмитрий Донской», эта надутая ораторская речь, переложенная в разговоры
61
Теперь никто не станет отрицать поэтического таланта Озерова, но вместе с тем и едва ли кто станет читать его, а тем более восхищаться им.
Появление Жуковского изумило Россию, и не без причины. Он был Колумбом нашего отечества: указал ему на немецкую и английскую литературы, которых существования оно даже и не подозревало. Кроме сего, он совершенно преобразовал стихотворный язык, а в прозе шагнул далее Карамзина:* вот главные его заслуги. Собственных его сочинений немного; труды его или переводы, или переделки, или подражания иностранным. Язык смелый, энергический, хотя и не всегда согласный с чувством, односторонняя мечтательность, бывшая, как говорят, следствием обстоятельств его жизни1,— вот характеристика сочинений Жуковского. Ошибаются те, которые почитают его подражателем немцев и англичан: он не стал бы иначе писать и тогда, когда б был не знаком с ними, если б только захотел быть верным самому себе. Он не был сыном XIX века, но был, так сказать, прозелитом; присовокупите к сему еще то, что его творения, может быть, в самом деле проистекали из обстоятельств его жизни, и вы поймете, отчего в них нет идей мировых, идей человечества, отчего у него часто под самыми роскошными формами скрываются как будто карамзинские идеи (например, «Мой друг, хранитель, ангел мой!» и т. п.), отчего в самых лучших его созданиях (как, например, в «Певце во стане русских воинов») встречаются места совершенно риторические. Он был заключен в себе: и вот причина его односторонности, которая в нем есть оригинальность в высочайшей степени. По множеству своих переводов, Жуковский относится к нашей литературе, как Фосс или Авг. Шлегель к немецкой литературе. Знатоки утверждают, что он не переводил, а усвоивал русской словесности создания Шиллеров, Байронов и пр.; в этом, кажется, нет причины сомневаться. Словом: Жуковский есть поэт с необыкновенным энергическим талантом, поэт, оказавший русской литературе неоцененные услуги, поэт, который никогда не забудется, которого никогда не перестанут читать; но, вместе с тем, и не такой поэт, которого б можно было назвать поэтом собственно русским, имя которого можно б было провозгласить на европейском турнире, где соперничествуют народными славами.
Многое из сказанного о Жуковском можно сказать и о Батюшкове. Сей последний решительно стоял на рубеже двух веков: поочередно пленялся и гнушался прошедшим, не признал и не был признан наступившим. Это был человек не гениальный, но с большим талантом. Как жаль, что он не знал немецкой ли-
62
тературы: ему немногого недоставало для совершенного литературного обращения. Прочтите его статью о морали, основанной на религии, и вы поймете эту тоску души и ее порывы к бесконечному после упоения сладострастием, которыми дышат его гармонические создания. Он писал о жизни и впечатлениях поэта, где между детскими мыслями проискриваются мысли как будто нашего времени, и тогда же писал о какой-то легкой поэзии, как будто бы была поэзия тяжелая. Не правда ли, что он не принадлежал вполне ни тому, ни другому веку?.. Батюшков, вместе с Жуковским, был преобразователем стихотворного языка, т. е. писал чистым, гармоническим языком; проза его тоже лучше прозы мелких сочинений Карамзина. По таланту Батюшков принадлежит к нашим второклассным писателям и, по моему мнению, ниже Жуковского; о равенстве же его с Пушкиным смешно и думать. Триумвирату, составленному нашими словесниками из Жуковского, Батюшкова и Пушкина, могли верить только в двадцатых годах...
Мне остается теперь упомянуть еще о Мерзлякове, и я окончу весь Карамзинский период нашей словесности, окончу перечень всех его знаменитостей, всей его аристократии: останутся плебеи, о которых нечего говорить много, разве только для доказательства зыбкости наших прославленных авторитетов. Мерзляков был человек с необыкновенным поэтическим дарованием и представляет собою одну из умилительнейших жертв духа времени. Он преподавал теорию изящного, и между тем эта теория оставалась для него неразгаданною загадкою во всё продолжение его жизни; он считался у нас оракулом критики и не знал, на чем основывается критика; наконец, он во всю жизнь свою заблуждался насчет своего таланта, ибо, написавши несколько бессмертных песен, в то же время написал множество од, в коих где-где блистают искры могущего таланта, которого не могла убить схоластика, и в коих всё остальное голая риторика. Несмотря на то, повторяю: это был талант мощный, энергический: какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях! как живо сочувствовал он в них русскому народу и как верно выразил в их поэтических звуках лирическую сторону его жизни! Это не песенки Дельвига, это не подделки под народный такт — нет: это живое, естественное излияние чувства, где всё безыскусственно и естественно! Не правда ли, что, по прочтении или по выслушании любой из его песен, вы невольно готовы воскликнуть:
Ах! та песнь была заветная:
Рвала белу грудь тоской,
А всё слушать бы хотелось,
Не расстался бы ввек с ней!1
63
И этот человек, который был знаком с немецким языком и литературою, этот человек, с душою поэтическою, с чувством глубоким,— писал торжественные оды, перевел Тасса, говорил с кафедры, что только чудотворный гений немцев любит выставлять на сцене виселицы, находил гений в Сумарокове и был увлечен, очарован поддельною и нарумяненною поэзиею французов, в то время как читал Гёте и Шиллера!.. Он рожден был практиком поэзии, а судьба сделала его теоретиком, пламенное чувство влекло его к песням, а система заставила писать оды и переводить Тасса!..
Теперь вот прочие замечательные по таланту или по авторитету литераторы Карамзинского периода.
Капнист принадлежит к трем царствованиям. Некогда он слыл за поэта с необыкновенным дарованием. Г-н Плетнев даже утверждал где-то и когда-то,1 что у Капниста есть что-то такое, чего будто бы недостает Ламартину: le bon vieux temps!* Теперь Капнист совершенно забыт, вероятно, потому, что плакал в своих стихах по правилам порядочной хрии, а более всего потому, что едва заметные блестки таланта еще не могут спасти писателя от всепоглощающих волн Леты. Он наделал много шуму своею «Ябедою»; но эта прославленная «Ябеда» ни больше ни меньше, как фарс, написанный языком варварским даже и по своему времени.
Гнедич и Милонов были истинные поэты: если их теперь мало почитают, то это потому, что они слишком рано родились.
Г-н Воейков (Александр Федорович, как значится в литературном «Адрес-календаре» г. Греча, известном под именем «Истории русской литературы») играл некогда в нашей словесности роль знаменитого. Он перевел Делиля (которого почитал не только поэтом, но и большим поэтом); он сам собирался написать дидактическую поэму (в то время все верили безусловно возможности дидактической поэзии); он переводил (как умел) древних; потом занялся изданием разных журналов, в коих с неутомимою ревностию выводил на свежую воду знаменитых друзей, гг. Греча и Булгарина (нечего сказать — высокая миссия!); теперь, на старости лет, поочередно или, лучше сказать, понумерно, бранит Барона Брамбеуса и преклоняет пред ним колена, а пуще всего восхваляет Александра Филипповича Смирдина за то, что он дорого платит авторам; перепечатывает в своем журнале старые стихи и статьи из «Молвы» за 1831 год. Что ж делать? От великого до смешного только шаг, сказал Наполеон!...
Князь Вяземский, русский Карл Нодье, писал стихами и прозою про всё и обо всем. Его критические статьи (т. е. пре-
64
дисловия к разным изданиям) были необыкновенным явлением в свое время. Между его бесчисленными стихотворениями многие отличаются блеском остроумия неподдельного и оригинального, иные даже чувством; многие и натянуты, как, например, «Как бы не так!» и пр. Но вообще сказать, князь Вяземский принадлежит к числу замечательных наших поэтов и литераторов.
(До следующего листка).
<VIII>
Было время!..
Народная поговорка.
В прошедшей статье я обозрел Карамзинский период нашей словесности, период, продолжавшийся целую четверть столетия. Целый период словесности, целая четверть века ознаменованы влиянием одного таланта, одного человека, а ведь четверть века много, слишком много значит для такой литературы, которая не дожила еще пяти лет до своего второго столетия!* И что же произвел великого и прочного этот период? Где теперь гении, которыми он, бывало,2 так красовался и величался? Изо всех них один только велик и бессмертен без всяких отношений, и этот один не заплатил дани Карамзину, который брал свою обычную дань даже и с таких людей, кои были выше его и по таланту и по образованию: говорю о Крылове. Повторяю: что сделано в этот период для бессмертия? Один познакомил нас несколько, и притом односторонним образом, с немецкою и английскою литературою, другой с французским театром, третий с французскою критикою XVII столетия, четвертый... Но где же литература? Не ищите ее: напрасен будет ваш труд; пересаженные цветы недолговечны: это истина неоспоримая. Я сказал, что в начале этого периода впервые родилась у нас мысль о литературе: вследствие того появились у нас и журналы. Но что такое
5 В. Г. Белинскии, т. I
65
были эти журналы? Невинное препровождение времени, дело от безделья, а иногда и средство нажить денежку. Ни один из них не следил за ходом просвещения, ни один не передавал своим соотечественникам успехов человечества на поприще самосовершенствования. Помню, что в каком-то чувствительном журнале, кажется, в 1813 году, было напечатано, что в Англии явился новый поэт, Бирон, который пишет в каком-то романтическом роде и особенно прославился своею поэмою «Шильд Гарольд»: вот вам и всё тут. Конечно, тогда не только в России, но отчасти и в Европе смотрели на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французского классицизма; но движение там уже было начато, и сами французы, умиротворенные реставрацией, много поумнели против прежнего и даже совершенно переродились. Между тем наши литературные наблюдатели дремали и только тогда проснулись, когда неприятель ворвался в их домы и начал в них своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласом великим: караул, режут, разбой, романтизм!..
За Карамзинским периодом нашей словесности последовал период Пушкинский, продолжавшийся почти ровно десять лет. Говорю Пушкинский, ибо кто не согласится, что Пушкин был главою этого десятилетия, что всё тогда шло от него и к нему? Впрочем, я не то здесь думаю, чтобы Пушкин был для своего времени совершенно то же, что Карамзин для своего. Одно уж то, что его деятельность была бессознательною деятельностию художника, а не практическою и преднамеренною деятельностию писателя, полагает большую разницу между им и Карамзиным. Пушкин владычествовал единственно силою своего таланта и тем, что он был сыном своего века; владычество же Карамзина в последнее время основывалось на слепом уважении к его авторитету. Пушкин не говорил, что поэзия есть то или то, а наука есть это или это; нет: он своими созданиями дал мерило для первой и до некоторой степени показал современное значение другой. В то время, то есть в двадцатых годах (1817—1824), у нас глухо отдалось эхо умственного переворота, совершившегося в Европе; тогда, хотя еще робко и неопределенно, начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспир1 неизмеримо выше накрахмаленного Расина, что Шлегель будто бы знает об искусстве побольше Лагарпа, что немецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные гг. Буало, Батте, Лагарп и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили в нем толку. Конечно, теперь в этом никто не сомневается, и доказывать подобные истины значило бы навлечь на себя всеобщее посмеяние; но тогда, право, было не до смеху; ибо тогда даже и в Европе за подобные безбожные мысли угрожало инквизи-
66
торское аутодафе; на что же решались в России люди, которые дерзали утверждать, что Сумароков не поэт, что Херасков тяжеловат, и пр.? Из сего ясно, что чрезмерное влияние Пушкина происходило оттого, что, в отношении к России, он был сыном своего времени в полном смысле сего слова, что он шел наравне с своим отечеством, был представителем развития его умственной жизни; следовательно, его владычество было законное. Карамзин, напротив, как мы видели выше, в девятнадцатом веке был сыном осьмнадцатого и даже, в некотором смысле, не вполне его выразил, ибо, по своим идеям, не возвысился даже и до него, следовательно, его влияние было законно только разве до появления Жуковского и Батюшкова, начиная с коих,3 его могущественное влияние только задерживало успехи нашей словесности. Появление Пушкина было зрелищем умилительным; поэт-юноша, благословенный помазанным старцем Державиным, стоявшим на краю гроба и готовившимся склонить в него свою лавровенчанную главу; поэт-муж, подающий к нему руку чрез неизмеримую пропасть целого столетия, разделявшего, в нравственном смысле, два поколения; наконец, ставший подле него и вместе с ним образующий двойственное лучезарное созвездие на пустынном небосклоне нашей литературы!..1
Классицизм и романтизм— вот два слова, коими огласился Пушкинский период нашей словесности; вот два слова, на кои были написаны книги, рассуждения, журнальные статьи и даже стихотворения, с коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались на смерть, о коих спорили до слез и в классах и в гостиных, и на площадях и на улицах! Теперь эти два слова сделались как-то пошлыми и смешными; как-то странно и дико встретить их в печатной книге или услышать в разговоре. А давно ли кончилось это тогда и началось это теперь? Как же после сего не скажешь, что всё летит вперед на крыльях ветра? Только разве в каком-нибудь Дагестане можно еще с важностию рассуждать об этих почивших страдальцах — классицизме и романтизме — и выдавать нам за новость, что Расин немножко приторен, что энциклопедисты немножко врали, что Шекспир, Гёте и Шиллер велики, а Шлегель говорил правду, и пр. И это нисколько не удивительно: ведь Дагестан в Азии!..2
В Европе классицизм был литературным католицизмом. В папы оного был выбран, без его ведома и согласия, покойник Аристотель, каким-то непризнанным конклавом; инквизициею этого католицизма была французская критика; великими инквизиторами: Буало, Батте и Лагарп с братиею; предметами обожания: Корнель, Расин, Вольтер и другие. Волею или неволею, гг. инквизиторы завербовали в свой календарь и древних, а в числе их и вечного старца Гомера (вместе с Виргилием), Тacca, Ариоста, Мильтона, кои (за исключением, может быть,
67
5*
вставочного) не виноваты в классицизме ни душою ни телом, ибо были естественны в своих творениях. Так дела шли до XVIII столетия. Наконец, всё перевернулось: белое стало черным, а черное белым. Лицемерный, развратный, приторный осьмнадцатый век испустил свое последнее дыхание, и с девятнадцатым столетием ум и вкус возродились для новой, лучшей жизни. Подобно страшному метеору, в начале его возник сын судьбы, облеченный всею ее ужасающею мощию, или, лучше сказать, сама судьба явилась в образе Наполеона, того Наполеона, который сделался властителем наших дум,1 говоря о котором и самая посредственность возвышалась до поэзии. Век принял гигантские размеры и облекся в исполинское величие; Франция устыдилась самой себя и с ругательным смехом начала указывать пальцем на жалкие развалины минувшего времени, которые, как бы не замечая великих переворотов, совершавшихся перед их глазами, даже при роковом переходе через Березину, взмостившись на сук дерева, окостенелою рукою завивали свои букли и посыпали их заветною пудрою, тогда как вокруг них бушевала зимняя вьюга мстительного севера, и люди падали тысячами, оцепененные страхом и холодом... Итак, французы, слишком пораженные этими великими событиями, сделались постепеннее и посолиднее, перестали прыгать на одной ножке; это было первым шагом к их обращению к истине. Потом они узнали, что у их соседей, у неповоротливых немцев, коих они всегда выставляли за образец эстетического безвкусия, есть литература, литература, достойная глубокого и основательного изучения, и, вместе с тем, узнали, что их препрославленные поэты и философы совсем не поставили геркулесовских столбов гению человеческому. Всем известно, как всё это сделалось, и потому не хочу распространяться о том, что Шатобриан был крестным отцом, а г-жа Сталь повивальною бабкою юного романтизма во Франции. Скажу только, что этот романтизм был не иное что, как возвращение к естественности, а следственно, самобытности и народности в искусстве, предпочтение, оказанное идее над формою, и свержение чуждых и тесных форм древности, которые к произведениям новейшего искусства шли точно так же, как идет к напудренному парику, шитому камзолу и выбритой бороде греческий хитон или римская тога. Отсюда следует, что этот так называемый романтизм был очень старая новость, а отнюдь не чадо XIX века; был, так сказать, народностью нового христианского мира Европы. Германия была искони веков романтическою страною по преимуществу, как по феодальным формам своего правления, так и по идеальному направлению своей умственной деятельности. Реформация убила в ней католицизм, а вместе с ним и классицизм. Эта же самая реформация, хотя несколько в другом виде, развя
68
зала руки и Англии: Шекспир был романтик.1 Очевидно, что романтизм был новостию только для одной Франции и еще для тех государств, где совсем не было литератур, то есть Швеции, Дании и т.п. И Франция бросилась на эту старую новинку со всею своею живостию и увлекла за собой безлитературные государства. Юная словесность2 есть не иное что, как реакция старой; и как во Франции общественная жизнь и литература идут об руку, то и нимало не удивительно, что нынешняя их литература отличается излишеством: реакции никогда не бывают умеренны. Теперь во Франции из одной моды всякий хочет быть глубоким и энергическим подобно какому-нибудь Феррагусу,3 так, как прежде всякий из моды же хотел быть ветреным, беспечным, легковерным и ничтожным.
И однако ж, странное дело! никогда не проявлялось в Европе такого дружного и сильного стремления сбросить с себя оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это всё одно и то же). Байрон, другой властитель наших дум,4 и Вальтер Скотт раздавили своими творениями школу Попа и Блера и возвратили Англии романтизм. Во Франции явился Виктор Гюго с толпою других мощных талантов, в Польше Мицкевич, в Италии Манцони, в Дании Эленшлегер, в Швеции Тегнер. Неужели только России суждено было остаться без своего литературного Лютера?
В Европе классицизм был не что иное, как литературный католицизм: что же такое был <он> в России? Не трудно отвечать на этот вопрос: в России классицизм был ни больше, ни меньше, как слабый отголосок европейского эха, для объяснения коего совсем не нужно ездить в Индию на пароходе «Джон Буль».5 Пушкин не натягивался, был всегда истинен и искренен в своих чувствах, творил для своих идей свои формы: вот его романтизм. В этом отношении и Державин был почти такой же романтик, как и Пушкин; причина этому, повторяю, скрывается в его невежестве. Будь этот человек учен — и у нас было бы два Хераскова, коих было бы трудно отличить друг от друга.
Итак, третье десятилетие XIX века было ознаменовано влиянием Пушкина. Что могу сказать я нового об этом человеке? Признаюсь: еще в первый раз поставил я себя в затруднительное положение, взявшись судить о русской литературе; еще в первый раз я жалею о том, что природа не дала мне поэтического таланта, ибо в природе есть такие предметы, о коих грешно говорить смиренною прозою!
Как медленно и нерешительно шел или, лучше сказать, хромал Карамзинский период, так быстро и скоро шел период Пушкинский. Можно сказать утвердительно, что только в прошлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая жизнь! Тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть
69
действование, действование есть борьба, а тогда боролись и дрались не на живот, а на смерть. У нас нападают иногда на полемику, в особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как можно предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать на себя ненависть и гонение? О! им никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастие души, сказать какому-нибудь гению в отставке без мундира, что он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикуну-журналисту обязан своею литературного значительностию; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку,1 какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту словесность, которой занимается, и этих добрых людей, кредитом коих пользуется, что он наругался и над святостию истины и над святостию знания, заклеймить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свету во всей его наготе!..2 Говорю вам, во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное! Конечно, в литературных сшибках иногда нарушаются законы приличия и общежительности; но умный и образованный читатель пропустит без внимания пошлые намеки о желтяках, об утиных носах, семинаристах, гаре, полугаре, купцах и аршинниках;3 он всегда сумеет отличить истину ото лжи, человека от слабости, талант от заблуждения; читатели же невежды не сделаются от того ни глупее, ни умнее. Будь всё тихо и чинно, будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!..
Итак, период Пушкинский был ознаменован движением жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы обо всем пересудили, обо всем переспорили, всё усвоили себе, ничего не взрастивши, не взлелеявши, не создавши сами. За нас трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались им: в этом-то и заключается тайна неимоверной быстроты наших успехов и причина их неимоверной непрочности. Этим же, кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия, столь живого и деятельного, столь обильного талантами и гениями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый,
70
теперь с грустию видит, как имена, вместе с ним взошедшие на горизонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине забвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово... В самом деле, где же теперь эти юные надежды, которыми мы так гордились? Где эти имена, о коих, бывало только и слышно? Почему они все так внезапно смолкнули? Воля ваша, а мне сдается, что тут что-нибудь да есть! Или, в самом деле, время есть самый строгий, самый правдивый Аристарх?.. Увы!.. Разве талант Озерова или Батюшкова был ниже таланта, например, г. Баратынского и г. Подолинского? Явись Капнист, В. и А. Измайловы, В. Пушкин, явись эти люди вместе с Пушкиным во цвете юности, и они, право, не были бы смешны и при тех скудных дарованиях, которыми наградила их природа. Отчего же так? Оттого, что подобные таланты могут быть и не быть, смотря по обстоятельствам.
Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими рукоплесканиями и свистом, которые только недавно перестали его преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такою на-родностию, такою славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. И кем же? Людьми, которые сперва пресмыкались пред ним во прахе,1 а потом кричали: chute complète*! Людьми, которые велегласно объявляли о себе, что у них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литераторов: дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на них.2 Но не о том дело. Вспомните состояние нашей литературы до двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда большую часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда, 3 Державиным восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лекциям Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего нового; всё тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Людмила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. Люди без претензий на ученость, люди, верившие своему чувству, а не пиитикам, или сколько-нибудь знакомые с современною Европою, были очарованы этим явлением. Литературные судии, державшие в руках жезл критики, с важностию развернули «Лицей» (в переводе г. Мартынова — «Ликей») Лагарпа4 и «Словарь Древния и новыя поэзии» г. Остолопова и, увидя, что новое произведение не подходило ни под одну из известных категорий и что на греческом и латинском языке не было образца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не все, конечно, тому поверили. Вот и пошла потеха. Классицизм и романтизм вцепились друг другу в волосы. Но оставим их в покое и поговорим о Пушкине.
71
Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностию принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность вековых правил, самою мудростию извлеченных из писаний великих гениев, и с удивлением узнавшая о других правилах, о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей дотоле, взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да — Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества; но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки; мы всё знаем, ничему не учившись, всё приобрели, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словом:
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь.1
Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду,
Чтоб в просвещении стать с веком наравне;2
от труда опять к младым пирам, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания. Баловень природы, он, шаля и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни... Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами... Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, подобные шуму волн или журчанию ручья...3
Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада.4 У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, то есть его «Андрей
72
Шенье», его могучая беседа с морем, его вещая дума о Наполеоне— поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.
Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет, это вопрос, это гамлетовское быть или не быть скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю.1 Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало,* то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии, вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою, где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!.. Странная вещь, непонятная вещь.2 Неужели Пушкина, которого не могли убить ни исступленные похвалы энтузиастов, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина? И однако ж не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить не легко. Вы верно читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»? Вы верно были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна и в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.3
Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою
73
тоскою души, пресыщенной наслаждениями и всё еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовию Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...
Вместе с Пушкиным появилось множество талантов, теперь большею частию забытых или готовящихся быть забытыми, но некогда имевших алтари и поклонников; теперь из них
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал!1
Г-на Баратынского ставили на одну доску с Пушкиным; их имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочинения сих поэтов явились в одной книжке, под одним переплетом.2 Говоря о Пушкине, я забыл заметить, что только ныне его начинают ценить по достоинству, ибо уже реакция кончилась, партии поохолодели. Итак, теперь даже и в шутку никто не поставит имени г. Баратынского подле имени Пушкина. Это значило бы жестоко издеваться над первым и не знать цепы второму. Поэтическое дарование г. Баратынского не подвержено ни малейшему сомнению. Правда, он написал плохую поэму «Пиры», плохую поэму «Эдда» («Бедную Лизу» в стихах), плохую поэму «Наложницу», но вместе написал и несколько прекрасных элегий, дышащих неподдельным чувством, из коих «На смерть Гёте» может назваться образцовою, несколько посланий, отличающихся остроумием. Прежде его возвышали не по заслугам; теперь, кажется, унижают неосновательно. Замечу еще, что г. Баратынский обнаруживал во времена оны претензии на критический талант; теперь, я думаю, он и сам разуверился в нем.3
Козлов принадлежит к замечательнейшим талантам Пушкинского периода. По форме своих сочинений он всегда был подражателем Пушкина, по господствующему же чувству оных, кажется, находился под влиянием Жуковского. Всем известно, что несчастие пробудило поэтический талант Козлова: посему какое-то грустное чувство, покорность воле провидения и упование на мздовоздание за гробом составляют отличительный характер его созданий. Его «Чернец», над коим было пролито столько слез прекрасными читательницами и который был сколком с Байронова «Джяура», особенно отличается этим односторонним характером; последовавшие за ним поэмы были
74
постепенно слабее. Мелкие сочинения Козлова отличаются неподдельным чувством, роскошною живописностью картин, звучным и гармоническим языком. Как жаль, что он писал баллады! Баллада без народности есть род ложный и не может возбуждать участия. Притом же он силился создать какую-то славянскую балладу. Славяне жили давно и мало известны нам, так для чего же выводить на сцену онемеченных Всемил и Останов? Козлов много повредил своей художнической знаменитости еще и тем, что иногда писал как будто от скуки: это в особенности можно сказать о его нынешних произведениях.
Языков и Давыдов (Д. В.) имеют много общего. Оба они примечательные явления в нашей литературе. Один, поэт-студент, беспечный и кипящий избытком юного чувства, воспевает потехи юности, пирующей на празднике жизни, пурпуровые уста, черные очи, лилейные перси и дивные брови красавиц, огненные ночи и незабвенные края,
Где пролетела шумно, шумно
Лихая молодость его.1
Другой, поэт-воин, со всею военною откровенностию, со всем жаром не охлажденного годами и трудами чувства, в удалых стихах рассказывает нам о проказах молодости, об ухарских забавах, о лихих наездах, о гусарских пирушках, о своей любви к какой-то гордой красавице. Как тот, так и другой нередко срывают с своих лир звуки сильные, громкие и торжественные; нередко трогают выражением чувства живого и пламенного. Их односторонность в них есть оригинальность, без которой нет истинного таланта.
Подолинский подал о себе самые лестные надежды и, к несчастию, не выполнил их. Он владел поэтическим языком и не был лишен поэтического чувства. Мне кажется, что причина его неуспеха заключается в том, что он не сознал своего назначения и шел не по своей дороге.
Ф. Н. Глинка... но что я скажу об нем? Вы знаете, как благоуханны цветы его поэзии, как нравственно и свято его художественное направление: это хоть кого так обезоружит. Но, вполне сознавая его поэтическое дарование, нельзя в то ж время не сознаться, что оно уж чересчур односторонне; нравственность нравственностию, а ведь одно и то же прискучит. Ф. Н. Глинка писал много, и потому между многими прекрасными пьесками у него чрезвычайно много пьес решительно посредственных. Причиною этого, кажется, то, что он смотрит на творчество, как на занятие, как на невинное препровождение времени, а не как на призвание свыше, и вообще как-то низменно смотрит на многие предметы. Лучшими своими стихами он обязан
75
религиозным вдохновениям. Его поэма «Карелия» заключает в себе много красот, может быть, еще больше недостатков.
Дельвиг... но Дельвигу Языков написал прелестную поэтическую панихиду, но Дельвига Пушкин почитает человеком с необыкновенным дарованием; куда же мне спорить с такими авторитетами? Дельвига почитали некогда огречившимся немцем; правда ли это? De mortuis aut bene, aut nihil,* и потому я не хочу обнаруживать моего собственного мнения о сем поэте. Вот что некогда было напечатано в «Московском вестнике» о его стихотворениях: «Их можно прочитать с легким удовольствием, но не более». Таких поэтов много было в прошлое десятилетие.
(Не всё еще).
<IХ>
(Предокончание)
Берег! Берег!..
Истертое выражение.
Пушкинский период отличается необыкновенным множеством стихотворцев-поэтов: это решительно период стихотворства, превратившегося в совершенную манию. Не говоря уже о стихотворцах бездарных, авторах киргизских, московских и других пленников, авторах Вельских и других Евгениев под разными именами,1 сколько людей, если не с талантом, то с удивительною способностию, если не к поэзии, то к стихотворству! Стихами и отрывками из поэм было наводнено многочисленное поколение журналов и альманахов; опытами в стихах, собраниями стихов и поэмами были наводнены книжные лавки. И во всем этом был виноват один Пушкин: вот едва ли не единственный, хотя и не умышленный, грех его в отношении к русской литературе! Итак, о бездарных писаках много говорить нечего; бранить их тоже нечего: мстительная Лета давно уже наказала их. Поговорю лучше о людях, отличившихся некоторою степенью таланта или, по крайней мере, способности. Отчего они так скоро утратили свою знаменитость? Или они выписались? Ничуть не бывало! Многие из них и теперь еще пишут или, по крайней мере, и теперь еще могут писать так же хорошо, как и прежде; но увы! уже не могут возбуждать своими сочинениями бывалого энтузиазма в читателях. Отчего же? Оттого, повторяю, что они могли быть и не быть, что пылкость юности принимали за тревогу вдохновения, способность прини-
76
мать впечатления изящного — за способность поражать других впечатлениями изящного, способность описывать всякую данную материю с некоторым подражательным вымыслом* гармоническими стихами — за способность воспроизводить в слове явления всеобщей жизни природы. Они заняли у Пушкина этот стих гармонический и звучный, отчасти и эту поэтическую прелесть выражения, которые составляют только внешнюю сторону его созданий; но не заняли у него этого чувства глубокого и страдательного, которым они дышат и которое одно есть источник жизни художественных произведений. Посему-то они как будто скользят по явлениям природы и жизни, как скользит по предметам бледный луч зимнего солнца, а не проникают в них всею жизнию своею; посему-то они как будто только описывают предметы или рассуждают о них, а не чувствуют их. И потому-то вы прочтете их стихи иногда с удовольствием, если не с наслаждением, но они никогда не оставят в душе вашей резкого впечатления, никогда не заронятся в вашу память. Присовокупите к этому еще односторонность их направления и однообразие их заветных мечтаний и дум, и вот вам причина, отчего нимало не шевелят вашего сердца эти стихи, некогда столь пленявшие вас. Ныне не то время, что прежде: ныне только стихами, ознаменованными печатию высокого таланта, если не гения, можно заставить читать себя. Ныне требуют стихов выстраданных, стихов, в коих слышались бы вопли души, исторгаемые неземными муками; словом, ныне
Плач неестественный досаден,
Смешно жеманное вытье...1
Один из молодых замечательнейших литераторов наших, г. Шевырев, с ранних лет своей жизни предавшийся науке и искусству, с ранних лет выступивший на благородное поприще действования в пользу общую, слишком хорошо понял и почувствовал этот недостаток, столь общий почти всем его сверстникам и товарищам по ремеслу. Одаренный поэтическим талантом, что особенно доказывают его переводы из Шиллера, из коих многие сам Жуковский не постыдился бы назвать своими, обогащенный познаниями, коротко знакомый со всеобщею историею литератур, что доказывается многими его критическими трудами и, особенно, отлично исполняемою им должностию профессора при Московском университете,— он, как видно из его оригинальных произведений, решился произвести реакцию всеобщему направлению литературы тогдашнего времени. В основании каждого его стихотворения лежит мысль глубокая и поэтическая, видны претензии на шиллеровскую обширность
77
взгляда и глубокость чувства, и, надо сказать правду, его стих всегда отличался энергическою краткостию, крепкостию и выразительностию. Но цель вредит поэзии; притом же, назначив себе такую высокую цель, надо обладать и великими средствами, чтобы ее достойно выполнить. Посему большая часть оригинальных произведений г. Шевырева, за исключением весьма немногих, обнаруживающих неподдельное чувство, при всех их достоинствах, часто обнаруживают более усилия ума, чем излияние горячего вдохновения. Один только Веневитинов мог согласить мысль с чувством, идею с формою, ибо, изо всех молодых поэтов Пушкинского периода, он один обнимал природу не холодным умом, а пламенным сочувствием и, силою любви, мог проникать в ее святилище, мог
В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть1
и потом передавать в своих созданиях высокие тайны, подсмотренные им на этом недоступном алтаре. Веневитинов есть единственный у нас поэт, который даже современниками был понят и оценен по достоинству. Это была прекрасная утренняя заря, предрекавшая прекрасный день; в этом согласились все партии. Долг справедливости заставляет меня упомянуть еще о Полежаеве, таланте, правда, одностороннем, но тем не менее и замечательном. Кому не известно, что этот человек есть жалкая жертва заблуждений своей юности, несчастная жертва духа того времени, когда талантливая молодежь на почтовых мчалась по дороге жизни, стремилась упиваться жизнью, а не изучать ее, смотрела на жизнь, как на буйную оргию, а не как на тяжкий подвиг? Не читайте его переводов (исключая Ламартиновой пьесы: I’Homme à Lord Byron),* которые как-то нейдут в душу; не читайте его шутливых стихотворений, которые отзываются слишком трактирным разгульем, не читайте его заказных стихов, но прочтите те из его произведений, которые имеют большее или меньшее отношение к его жизни; прочтите «Думу на берегу моря»,2 его «Вечернюю зарю», его «Провидения» — и вы сознаете в Полежаеве талант, увидите чувство!..
Теперь мне остается сказать об одном поэте, не похожем ни на одного изо всех упомянутых мною, поэте оригинальном и самобытном, не признавшем над собою влияния Пушкина и едва ли не равном ему: говорю о Грибоедове. Этот человек слишком много надежд унес с собою во гроб. Он был назначен быть творцом русской комедии, творцом русского театра.
Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, т. е. всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступ-
78
лением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? И в самом деле, не сосредоточиваются ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии?.. Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею самовластно... Лиризм, эпопея, драма: отдаете ли вы чему-нибудь из них решительное предпочтение или всё это любите одинаково? Трудный выбор? Не правда ли? Ведь в мощных строфах богатыря Державина и в разнообразных напевах Протея Пушкина предображается та же самая природа, что и в поэмах Байрона или романах Вальтера Скотта, а в сих последних та же самая, что и в драмах Шекспира и Шиллера? И однако же я люблю драму предпочтительно, и, кажется, это общий вкус. Лиризм выражает природу неопределенно, и, так сказать, музыкально; его предмет — вся природа во всей ее бесконечности; предмет же драмы есть исключительно человек и его жизнь, в которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной. Между искусствами драма есть то же, что история между науками. Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека, а драма представляет этого человека в его вечной борьбе с своим я и с своим назначением, в его вечной деятельности, источник которой есть стремление к какому-то темному идеалу блаженства, редко им постигаемого и еще реже достигаемого. Сама эпопея от драмы занимает свое достоинство: роман без драматизма вял и скучен. В некотором смысле эпопея есть только особенная форма драмы. Итак, положим, что драма есть если не лучший, то ближайший к нам род поэзии. Что же такое театр, где эта могущественная драма облекается с головы до ног в новое могущество, где она вступает в союз со всеми искусствами, призывает их на свою помощь и берет у них все средства, все оружия, из коих каждое, отдельно взятое, слишком сильно для того, чтобы вырвать вас из тесного мира сует и ринуть в безбрежный мир высокого и прекрасного? Что же такое, спрашиваю вас, этот театр?.. О, это истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений! Эти звуки настроиваемых в оркестре инструментов томят вашу душу ожиданием чего-то чудесного, сжимают ваше сердце предчувствием какого-то неизъяснимо сладостного блаженства; этот народ, наполняющий огромный амфитеатр, разделяет ваше нетерпе-
79
ливое ожидание, вы сливаетесь с ним в одном чувстве; этот роскошный и великолепный занавес, это море огней намекают вам о чудесах и дивах, рассеянных по прекрасному божию творению и сосредоточенных на тесном пространстве сцены! И вот грянул оркестр — и душа ваша предощущает в его звуках те впечатления, которые готовятся поразить ее; и вот поднялся занавес — и перед взорами вашими разливается бесконечный мир страстей и судеб человеческих! Вот умоляющие вопли кроткой и любящей Дездемоны мешаются с бешеными воплями ревнивого Отелло; вот, среди глубокой полночи, появляется леди Макбет, с обнаженною грудью, с растрепанными волосами, и тщетно старается стереть с своей руки кровавые пятна, которые мерещатся ей в муках мстительной совести; вот выходит бедный Гамлет с его заветным вопросом: быть или не быть; вот проходят перед вами и божественный мечтатель Поза и два райские цветка—Макс и Текла1—с их небесною любовию, словом, весь роскошный и безграничный мир, созданный плодотворною фантазиею Шекспиров, Шиллеров, Гёте, Вернеров... Вы здесь живете не своею жизнию, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное я исчезает в пламенном эфире любви. Если вас мучит тягостная мысль о трудном подвиге вашей жизни и слабости ваших сил, вы здесь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоения, если в вашем воображении мелькал когда-нибудь, подобно легкому видению ночи, какой-то пленительный образ, давно вами забытый, как мечта несбыточная; здесь эта жажда вспыхнет в вас с новою неукротимою силою, здесь этот образ снова явится вам, и вы увидите его очи, устремленные на вас с тоскою и любовию, упьетесь его обаятельным дыханием, содрогнетесь от огненного прикосновения его руки... Но возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душою человеческою?.. О, как было бы хорошо, если бы у нас был свой, народный, русский театр!.. В самом деле,— видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могучей жизни... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!..
Но увы! всё это поэзия, а не проза, мечты, а не существенность! Там, т. е. в том большом доме, который называют русским театром, там, говорю я, вы увидите пародии на Шекспира и Шиллера, пародии смешные и безобразные; там выдают вам за трагедию корчи воображения; там вас потчуют жизнью, вывороченною наизнанку; словом, там
...Мельпомены бурной Протяжно раздается вой,
80
Там машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой!1
Говорю вам: не ходите туда; это очень скучная забава!.. Но не будем слишком строги к театру: не его вина, что он так плох. Где у нас драматическая литература, где драматические таланты? Где наши трагики, наши комики? Их много, очень много; их имена всем известны, и потому не хочу перебирать их, ибо мои похвалы ничего не прибавят к той громкой славе, которою они по справедливости пользуются. Итак, обращаюсь к Грибоедову.
Грибоедова комедия или драма (я не совсем хорошо понимаю различие между этими двумя словами; значение же слова трагедия совсем не понимаю) давно ходила в рукописи. О Грибоедове, как и о всех примечательных людях, было много толков и споров: ему завидовали некоторые наши гении, в то же время удивлявшиеся «Ябеде» Капниста; ему не хотели отдавать справедливости те люди, кои удивлялись гг. АВ, CD, EF и пр. Но публика рассудила иначе: еще до печати и представления рукописная комедия Грибоедова разлилась по России бурным потоком.
Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется трагедиею; ее предмет есть представление жизни в противоречии с идеею жизни; ее элемент есть не то невинное остроумие, которое добродушно издевается над всем из одного желания позубоскалить; нет: ее элемент есть этот желчный гумор, это грозное негодование, которое не улыбается шутливо, а хохочет яростно, которое преследует ничтожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами. Комедия Грибоедова есть истинная divina comedia!* Это совсем не смешной анекдотец, переложенный на разговоры, не такая комедия, где действующие лица нарицаются Добряковыми, Плутоватиными, Обираловыми и пр.; ее персонажи давно были вам известны в натуре, вы видели, знали их еще до прочтения «Горя от ума» и однако ж вы удивляетесь им как явлениям совершенно новым для вас: вот высочайшая истина поэтического вымысла! Лица, созданные Грибоедовым, не выдуманы, а сняты с натуры во весь рост, почерпнуты со дна действительной жизни; у них не написано на лбах их добродетелей и пороков; но они заклеймены печатию своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника. Каждый стих Грибоедова есть сарказм, вырвавшийся из души художника в пылу негодования; его слог есть par excellence** разговорный.
6 В. Г. Белинский, т. I
81
Недавно один из наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знающий общество, заметил, что только один Грибоедов умел переложить на стихи разговор нашего общества;1 без всякого сомнения, это не стоило ему ни малейшего труда; но тем не менее, это все-таки великая заслуга с его стороны, ибо разговорный язык наших комиков... Но уже обещался не говорить о наших комиках... Конечно, это произведение не без недостатков в отношении к своей целости, но оно было первым опытом таланта Грибоедова, первою русскою комедиею; да и сверх того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помешают ему быть образцовым, гениальным произведением и не в русской литературе, которая в Грибоедове лишилась Шекспира комедии...
Довольно о поэтах-стихотворцах, поговорим о поэтах-прозаиках. Знаете ли, чье имя стоит между ними первым в Пушкинском периоде словесности? Имя г. Булгарина, милостивые государи. Это и не удивительно. Г-н Булгарин был начинщиком, а начинщики, как я уже имел честь докладывать вам, всегда бессмертны, и потому беру смелость уверить вас, что имя г. Булгарина так же бессмертно в области русского романа, как имя Московского жителя Матвея Комарова.* Имя петербургского Вальтера Скотта Фаддея Венедиктовича Булгарина вместе с именем московского Вальтера Скотта Александра Анфимовича Орлова всегда будет составлять лучезарное созвездие на горизонте нашей литературы. Остроумный Косичкин уже оценил, как следует, обоих сих знаменитых писателей, показав нам сравнительно их достоинства, и потому, не желая повторять Косичкина, я выскажу о г. Булгарине мнение, теперь для всех общее, но еще нигде не высказанное печатно.2 Неужели и в самом деле г. Булгарин совершенно равен г. Орлову? Говорю утвердительно, что нет; ибо, как писатель вообще, он несравненно выше его, но как художник собственно он немного пониже его. Хотите ли знать, в чем состоит главная разница между сими светилами нашей словесности? Один из них много видел, много слышал, много читал, был и бывает везде; другой, бедный! не только не был в Испании, но даже и не выезжал за русскую границу; при знании латинского языка (знании, впрочем, не доказанном никаким изданием Горация ни с своими, ни с чужими примечаниями)3 не совсем твердо владеет и своим отечественным, да и не мудрено: он не имел случая прислушиваться к языку хорошей компании. Итак, всё дело в том, что сочинения одного выглажены и вылощены, как пол гостиной, а сочинения другого отзываются толкучим рынком. Впрочем, удивительное дело! несмотря на то, что оба
82
они писали для разных классов читателей, они нашли в одном и том же классе свою публику. И надо думать, что эта публика будет благосклоннее к Александру Анфимовичу, ибо он больше поэт, тогда как Фаддей Венедиктович более философ, а поэзия доступнее философии для всех классов.
Почти вместе с Пушкиным вышел на литературное поприще и г. Марлинский. Это один из самых примечательнейших наших литераторов. Он теперь безусловно пользуется самым огромным авторитетом: теперь перед ним всё на коленах; если еще не все в один голос называют его русским Бальзаком, то потому только, что боятся унизить его этим и ожидают, чтобы французы назвали Бальзака французским Марлинским. В ожидании, пока совершится это чудо, мы похладнокровнее рассмотрим его права на такой громадный авторитет. Конечно, страшно выходить на бой с общественным мнением и восставать явно против его идолов, но я решаюсь на это не столько по смелости, сколько по бескорыстной любви к истине. Впрочем, меня ободряет в сем случае и то, что это страшное общественное мнение начинает мало-помалу приходить в память от оглушительного удара, произведенного на него полным изданием «Русских повестей и рассказов» г. Марлинского; начинают ходить темные толки о каких-то натяжках, о скучном однообразии и тому подобном. Итак, я решаюсь быть органом нового общественного мнения. Знаю, что это новое мнение найдет еще слишком много противников, но как бы то ни было, а истина дороже всех на свете авторитетов.
На безлюдье истинных талантов в нашей литературе талант г. Марлинского, конечно, явление очень примечательное. Он одарен остроумием неподдельным, владеет способностию рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет иногда снимать с природы картинки-загляденье. Но вместе с этим нельзя не сознаться, что его талант чрезвычайно односторонен, что его претензии на пламень чувства весьма подозрительны, что в его созданиях нет никакой глубины, никакой философии, никакого драматизма; что, вследствие этого, все герои его повестей сбиты на одну колодку и отличаются друг от друга только именами; что он повторяет себя в каждом новом произведении; что у него более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства. У нас мало писателей, которые бы писали столько, как г. Марлинский; но это обилие происходит не от огромности дарования, не от избытка творческой деятельности, а от навыка, от привычки писать. Если вы имеете хотя несколько дарования, если образовали себя чтением, если запаслись известным числом идей и сообщили им некоторый отпечаток своего характера, своей личности, то берите перо и смело пишите с утра до ночи. Вы дойдете наконец до искусства,
83
6*
во всякую пору, во всяком расположении духа, писать о чем вам угодно; если у вас придумано несколько пышных монологов, то вам не трудно будет приделать к ним роман, драму, повесть; только позаботьтесь о форме и слоге: они должны быть оригинальные.
Вещи всего лучше познаются сравнением. Если два писателя пишут в одном роде и имеют между собою какое-нибудь сходство, то их не иначе можно оценить в отношении друг к другу, как выставив параллельные места: это самый лучший пробный камень. Посмотрите на Бальзака: как много написал этот человек, и, несмотря на то, есть ли в его повестях хотя один характер, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их индивидуальности! Не преследовал ли вас этот грозный и холодный облик Феррагуса, не мерещился ли он вам и во сне и наяву, не бродил ли за вами неотступною тенью? О, вы узнали бы его между тысячами, и между тем в повести Бальзака он стоит в тени, обрисован слегка, мимоходом, и застановлен лицами, на коих сосредоточивается главный интерес поэмы. Отчего же это лицо возбуждает в читателе столько участия и так глубоко врезывается в его воображении? Оттого что Бальзак не выдумал, а создал его, оттого что он мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повести, что он мучил художника до тех пор, пока он не извел его из мира души своей в явление, для всех доступное. Вот мы видим теперь на сцене и другого из «Тринадцати»: Феррагус и Монриво, видимо, одного покроя: люди с душою глубокою, как морское дно, с силою воли непреодолимою, как воля судьбы; и однако ж, спрашиваю вас: похожи ли они хотя сколько-нибудь друг на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женских портретов вышло из-под плодотворной кисти Бальзака, и между тем повторил ли он себя хотя в одном из них?.. Таковы ли в сем отношении создания г. Марлинского? Его Аммалат-Бек, его полковник В***, его герой «Страшного гаданья», его капитан Правин — все они родные братцы, которых различить трудно самому их родителю. Только разве первый из них немного отличается от прочих своим азиатским колоритом. Где же творчество? Притом сколько натяжек! Можно сказать, что натяжка у г. Марлинского такой конек, с которого он редко слезает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммою или с каламбуром, или с подобием; словом, у г. Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком. Надо сказать правду: природа с избытком наградила его этим остроумием, веселым и добродушным, которое колет, но не язвит, щекочет, но не
84
кусает; но и здесь он часто пересаливает. У него есть целые огромные повести, как, например «Наезды», которые, суть не иное что, как огромные натяжки. У него есть талант, но талант не огромный, талант, обессиленный вечным принуждением, избившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остроумия. Мне кажется, что роман не его дело, ибо у него нет никакого знания человеческого сердца, никакого драматического такта. Для чего, например, заставил он князя, для которого все радости земли и неба заключались в устрицах, для которого вкусный стол всегда был дороже жены и ее чести, для чего заставил он его проговорить патетический монолог осквернителю его брачного ложа, монолог, который сделал бы честь и самому Правину? Это просто натяжечка, закулисная подставочка; автору хотелось быть нравственным на манер г. Булгарина. Вообще он не мастер скрывать закулисные машины, на коих вертится здание его повестей; они у него всегда на виду. Впрочем, в его повестях встречаются иногда места истинно прекрасные, очерки истинно мастерские: таково, например, описание русского простонародного Мефистофеля и вообще все сцены деревенского быта в «Страшном гаданье»; таковы многие картины, снятые с природы, исключая, впрочем, Кавказских очерков, которые натянуты до тошноты, до nес plus ultra*. По мне, лучшие его повести суть «Испытание» и «Лейтенант Белозор»: в них можно от души полюбоваться его талантом, ибо он в них в своей тарелке. Он смеется над своим стихотворством; но мне перевод его песен горцев в «Аммалат-Беке» кажется лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими. Равным образом и в его «Андрее Переяславском», особенно во второй главе, встречаются места истинно поэтические, хотя целое произведение слишком отзывается детством. Всего страннее в г. Марлинском, что он с удивительною скромностию недавно сознался в таком грехе, в котором он не виноват ни душою, ни телом: в том, что будто он своими повестями отворил двери для народности в русскую литературу: вот что так уж неправда! Эти повести принадлежат к числу самых неудачных его попыток, в них он народен не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его заветною, его любимою Ливониею. Время и место не позволяют мне подкрепить выписками из сочинений г. Марлинского мое мнение о его таланте: впрочем, это очень легко сделать. О слоге его не говорю. Ныне слово слог начало терять прежнее свое обширное значение, ибо его перестают уже отделять от мысли. Словом, г. Марлинский писатель не без таланта, и был бы гораздо выше, если б был естественнее и менее натягивался.
85
Пушкинский период был самым цветущим временем нашей словесности. Его надобно б было обозреть исторически и в хронологическом порядке; я не сделал этого, потому что не то имел целию. Можно сказать утвердительно, что тогда мы имели если не литературу, то, по крайней мере, призрак литературы; ибо тогда было в ней движение, жизнь и даже какая-то постепенность в развитии. Сколько новых явлений, сколько талантов, сколько попыток на то и на другое! Мы было уже и в самом деле от души стали верить, что имеем литературу, имеем своих Байронов, Шиллеров, Гёте, Вальтеров Скоттов, Томасов Муров; мы были веселы и горды, как дети праздничными обновами. И кто же был нашим разочарователем, нашим Мефистофелем? Кто явился сильною, грозною реакциею и гораздо поохладил наши восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоумку; помните ли, как, выступив на сцену, на своих скудельных ножках, он рассеял наши сладкие мечты своим добродушно-лукавым: xe! xе! xе!1 Помните ли, как мы все ценились за наши авторитеты и авторитетики и руками и ногами отстаивали их от нападений грозного Аристарха? Не знаю как вы, а я очень хорошо помню, как все сердились на него; помню, как я сам сердился на него. И что же? Уже сбылась большая часть его зловещих предсказаний, и теперь уже никто не сердится на покойника!.. Да! Никодим Аристархович был замечательное лицо в нашей литературе: сколько наделал он тревоги, сколько произвел кровопролитных войн, как храбро сражался, как жестоко поражал своих противников, и этим слогом, иногда оригинальным до тривиальности, но всегда резким и метким, и этим твердым силлогизмом, и этою насмешкою, простодушною и убийственною вместе ...
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..2
Что скажу я о журналах тогдашнего времени? Неужели умолчу о них? Они в то время получили такую важность в глазах публики, возбуждали к себе такое живое участие, играли такую важную роль!.. Скажу, что почти все они, волею и неволею, умышленно и неумышленно, способствовали к распространению у нас новых понятий и взглядов; мы по ним учились и по ним выучились. Все они сделали всё, что мог каждый по своим силам. Кто же больше? На это не могу отвечать утвердительно; ибо, по особенным обстоятельствам, впрочем, важным только для одного меня, не могу говорить всего, что думаю. Я твердо помню благоразумное правило Монтаня и многие истины крепко держу в кулаке. Главное, я слишком еще неопытен в хаме-леонистике и имею глупость дорожить своими мнениями, не
86
как литератора и писателя (тем более, что я покуда ни то, ни другое), а как мнениями честного и добросовестного человека, и мне как-то совестно написать панегирик одному журналу, не отдавая справедливости другому...1 Что делать, я еще по моим понятиям принадлежу к Аркадии!.. Итак, ни слова о журналах! Теперь смотрю я на мой огромный стол, на котором лежат эти покойники кучами и кипами, лежат на нем, как во гробе, примиренные друг с другом моею леностию и беспорядкам моей комнаты, в смеси, друг на друге — гляжу на них с грустною улыбкою и говорю:
И всё то благо, всё добро!2
(Окончание следует).
<Х>
Еще одно последнее сказанье
И летопись окончена моя!
Пушкин.
Тридцатый, холерный год3 был для нашей литературы истинным черным годом, истинно роковою эпохою, с коей начался совершенно новый период ее существования, в самом начале своем резко отличившийся от предыдущего. Но не было никакого перехода между этими двумя периодами; вместо его был какой-то насильственный перерыв. Подобные противоестественные скачки, по моему мнению, всего лучше доказывают, что у нас нет литературы, а следовательно, нет и истории литературы; ибо ни одно явление в ней не было следствием другого явления, ни одно событие не вытекало из другого события. История нашей словесности есть ни больше ни меньше, как история неудачных попыток, посредством слепого подражания иностранным литературам, создать свою литературу; но литературу не создают; она создается так, как создаются, без воли и ведома народа, язык и обычаи. Итак, тридцатым годом кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной деятельности, допевали свои старые песенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушал их. Старинка приелась и набила оскомину, а нового от них нечего было услышать, ибо они остались на той же самой черте, на которой стали при первом своем появлении, и не хотели сдвинуться с ней. Журналы все умерли, как будто бы от какого-нибудь апоплексического удара или действительно от холеры-морбус.4 Причина этой внезап-
87
ной смерти или этого мору заключалась в том же, в чем заключается причина того, что у нас нет литературы. Они почти все родились без всякой нужды, а так, от безделья или от желания пошуметь, и потому не имели ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни влияния на общество, и неоплаканные сошли в безвременную могилу. Только для двух из них можно сделать исключение; только два из них представляют любопытный, поучительный и богатый результат для наблюдателя. Один — старец, водивший, бывало, на помочах наше юное общество, издавна пользовавшийся огромным авторитетом и деспотически управлявший литературными мнениями; другой — юноша, с пламенною душою, с благородным рвением к общей пользе, со всеми средствами достичь своей прекрасной цели, и между тем не достигший ее. «Вестник Европы» пережил несколько поколений, воспитал несколько поколений, из коих последнее, взлелеянное им, восстало с ожесточением на него же; но он всегда оставался одним и тем же, не изменялся и бился до последних сил: это была борьба благородная и достойная всякого уважения, борьба не из личных мелочных выгод, но из мнений и верований, задушевных и кровных. Его убило время, а не противники, и потому его смерть была естественная, а не насильственная.* «Московский вестник» имел
88
большие достоинства, много ума, много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало, сметливости и догадливости, и потому сам был причиною своей преждевременной кончины. В эпоху жизни, в эпоху борьбы и столкновения мыслей и мнений, он вздумал наблюдать дух какой-то умеренности и отчуждения от резкости в суждениях и, полный дельными и учеными статьями, был тощ рецензиями и полемикою, кои составляют жизнь журнала, был беден повестями, без коих нет успеха русскому журналу, и, что всего ужаснее, не вел подробной и отчетливой летописи мод и не прилагал модных картинок, без которых плохая надежда на подписчиков русскому журналисту. Что ж делать? Без маленьких и, повидимому, пустых уступок нельзя заключить выгодного мира. «Московский вестник» был лишен современности, и теперь его можно читать как хорошую книгу, никогда не теряющую своей цены, но журналом, в полном смысле сего слова, он никогда не был. Журналисты, как и поэты, родятся и бывают ими по призванию. Я не хотел говорить о журналах и как-то против своей воли увлекся; посему, говоря о покойниках, скажу слова два об одном живом, не упоминая, впрочем, его имени, которое весьма нетрудно угадать. Он уже существует давно: был единичным, двойственным и, наконец, сделался тройственным, и всегда отличался от своей собратии какого-то рода особенною безличностию.1 В то время, когда «Вестник Европы» отстаивал святую старину и до последнего вздоха бился с ненавистною новизною, в то время, когда юное поколение новых журналов сражалось, в свою очередь, не на живот, а на смерть, с скучною, опостылевшею стариною и с благородным самоотвержением силилось водрузить хоругвь века,— журнал, о коем я говорю, составил себе новую эстетику, вследствие которой то творение было высоко и изящно, которое печаталось во множестве экземпляров и хорошо раскупалось, новую политику, вследствие коей писатель ныне был выше Байрона, а завтра претерпевал chute complète.2 Вследствие сей-то благоразумной политики некоторые из наших Вальтер Скоттов писали повести о Никандрах Свистушкиных, авторах поэм «Жиды» и «Воры», и пр. и пр.3 Словом, этот журнал был единственным и беспримерным явлением в нашей литературе.
Итак, настал новый период словесности. Кто же явился главою этого нового, этого четвертого периода нашей недорогой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладел общественным вниманием и мнением, самодержавно правил последним, положил печать своего гения на произведения своего времени, сообщил ему жизнь и дал направление современным талантам? Кто, говорю я, явился солнцем этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя и многие
89
претендовали на это высокое титло. Еще в первый раз литература явилась без верховной главы и из огромной монархии распалась на множество мелких, независимых одно от другого государств, завистливых и враждебных одно другому. Голов было много, но они так же скоро падали, как скоро и возвышались; словом, этот период есть период нашей литературной истории в темную годину междуцарствия и самозванцев.
Как противоположен был Пушкинский период Карамзинскому, так настоящий период противоположен Пушкинскому. Деятельность и жизнь кончились; громы оружия затихли, и утомленные бойцы вложили мечи в ножны на лаврах, каждый приписывая себе победу и ни один не выиграв ее в полном смысле сего слова. Правда, в начале, особенно первых двух лет, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а окончание старой: это была тридцатилетняя война после смерти Густава-Адольфа и погибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но без Вестфальского мира, без удовлетворительных результатов для литературы. Период Пушкинский отличался какою-то бешеною маниею к стихотворству; период новый, еще в самом своем начале, оказал решительную наклонность к прозе. Но, увы! это было не шаг вперед, не обновление, а оскудение, истощение творческой деятельности. В самом деле, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорят, будто в наше время самые превосходные стихи не могут иметь никакого успеха. Нелепое мнение! Очевидно, что оно, как и все, принадлежит не нам, а есть вольное подражание мнениям наших европейских соседей. У них часто повторяли, что в наш век эпопея не может существовать, а теперь, кажется, сбиваются на то, что в наше время и драма кончилась. Подобные мнения весьма странны и неосновательны. Поэзия у всех народов и во все времена была одно и то же в своем существе: переменялись только формы, сообразно с духом, направлением и успехом, как всего человечества вообще, так и каждого народа в частности. Разделение поэзии на роды не есть произвольное: причина и необходимость оного скрывается в самой сущности искусства. Родов поэзии только три и больше быть не может. Всякое произведение, в каком бы то ни было роде, хорошо во все века и в каждую минуту, когда оно по своему духу и форме носит на себе печать своего времени и удовлетворяет все его требования. Где-то было сказано, что «Фауст» Гёте есть «Илиада» нашего времени: вот мнение, с которым нельзя не согласиться! И в самом деле, разве Вальтер Скотт также не есть наш Гомер, в смысле эпика, если не выразителя полного духа времени! Так и у нас теперь: явись новый Пушкин, но не Пушкин 1835, а Пушкин 1829 года, и Россия снова начала бы твердить стихи; но кто, кроме несчастных читателей ex offi-
90
cio,* даже подумает и взглянуть на изделия новых наших стиходеев: гг. Ершовых, Струговщиковых, Марковых, Снегиревых и пр.?..
Романтизм — вот первое слово, огласившее Пушкинский период; народность — вот альфа и омега нового периода. Как тогда всякий бумагомаратель из кожи лез, чтобы прослыть романтиком, так теперь всякий литературный шут претендует на титло народного писателя. Народность — чудное словечко! Что перед ним ваш романтизм! В самом деле, это стремление к народности весьма замечательное явление. Не говоря уже о наших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этот поэт, гений которого всегда был прикован к туманному Альбиону и фантастической Германии, вдруг забыл своих паладинов, с ног до головы закованных в сталь, своих прекрасных и верных принцесс, своих колдунов и свои очарованные замки — и пустился писать русские сказки... Нужно ли доказывать, что эти русские сказки так же не в ладу с русским духом, которого в них слыхом но слыхать и видом не видать, как не в ладу с русскими сказками греческий или немецкий гекзаметр?.. Но не будем слишком строги к этому заблуждению могущественного таланта, увлекшегося духом времени; Жуковский вполне совершил свое поприще и свой подвиг; мы больше не вправе ничего ожидать от него. Вот другое дело Пушкин: странно видеть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не стоило быть народным, когда он не старался быть народным, теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народным; странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важное то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или роскошь. Мне кажется, что это стремление к народности произошло оттого, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотели создать народную, как прежде силились создать подражательную. Итак, опять цель, опять усилия, опять старая погудка на новый лад? Но разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть народным? Нет, он об этом нимало не думал; он был народен, потому что не мог не быть народным: был народен бессознательно и едва ли знал цену этой народности, которую усвоил созданиям своим без всякого труда и усилия. По крайней мере, его современники мало умели ценить в нем это достоинство: они часто упрекали его за низкую природу и ставили на одну с ним доску прочих баснописцев, которые были несравненно ниже его. Следовательно, наши литераторы, с такою ревностию заботящиеся о народности, хлопочут непустому. И в самом деле,
91
какое понятие имеют у нас вообще о народности? Все, решительно все смешивают ее с простонародностию и отчасти с тривиальностию. Но это заблуждение имеет свою причину, свое основание, и на него отнюдь не должно нападать с ожесточением. Скажу более: в отношении к русской литературе нельзя иначе понимать народности. Что такое народность в литературе? Отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни; но имеем ли мы свою народную физиономию? Вот вопрос трудный для решения. Наша национальная физиономия всего больше сохранилась в низших слоях народа; посему наши писатели, разумеется владеющие талантом, бывают народны, когда изображают, в романе или драме, нравы, обычаи, понятия и чувствования черни. Но разве одна чернь составляет народ? Ничуть не бывало. Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие составляют народ по преимуществу. Знаю, что человек во всяком состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему так же, как и он, достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях или, вернее всего, в целой идее народа. Посему, избрав предметом своих вдохновений одну часть оного, вы непременно впадете в односторонность. Равным образом, вы не избежите этой крайности и отмежевав для своей творческой деятельности нашу историю до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не получили определенного образа и характера; их жизнь мало представляет для поэзии. Не правда ли, что прекрасная повесть Безгласного «Княжна Мими» немножко мелка и вяла? Помните ли вы ее эпиграф? — «Краски мои бледны, сказал живописец; что ж делать? в нашем городе нет лучших!» — Вот вам самое лучшее оправдание со стороны поэта и вместе самое лучшее доказательство, что в сей повести он народен в высочайшей степени. Так неужели наша народность в литературе есть мечта? Почти так, хотя и не совсем. Какой главный элемент наших произведений, отличающихся народностию? Очерки или древнерусской жизни (до Петра Великого), или простонародной жизни, и отсюда неизбежные подделки под тон летописей и народных песен или под лад языка наших простолюдинов. Но ведь в этих летописях, в этой жизни, давно прошедшей, веет дыхание общей человеческой жизни, являющейся под одной из тысячи ее форм; умейте же уловить его вашим умом и чувством и воспроизвести вашею фантазиею в своем художественном создании. В этом вся сила и важность. Но вам надо быть гением, чтобы в ваших творениях трепетала идея русской жизни: это путь самый скользкий. Мы так отделены или, лучше сказать, оторваны эрою Петра Великого от быта наших праотцев, что вашему
92
произведению непременно должно предшествовать глубокое изучение этого быта. Итак, соразмеряйте ваши силы с целию и не слишком самонадеянно пишите: русские в таком-то или в таком-то году.1 Притом еще надо заметить и то, что русская жизнь до Петра Великого была слишком спокойна и односторонна, или, лучше сказать, она проявлялась своим, оригинальным образом: вам легко будет оклеветать ее, придерживаясь Вальтера Скотта. Писатель, который на любви оснует план своего романа и целию усилий героя поставит руку и сердце верной красавицы, покажет явно, что он не понимает Руси. Я знаю, что наши бояре лазили через тыны к своим прелестницам, но это было оскорбление и искажение величавой, чинной и степенной русской жизни, а не проявление оной: таких рыцарей ночи наказывали ревнивцы плетьми и кольями, а не разделывались с ними на благородном поединке; такие красавицы почитались беспутными бабами, а не жертвами страсти, достойными сострадания и участия. Наши деды занимались любовию с законного дозволения или мимоходом, из шалости, и не сердце клали к ногам своих очаровательниц, а показывали им заранее шелковую плетку и неуклонно следовали мудрому правилу: люби жену, как душу, а тряси ее, как грушу или бей ее, как шубу. Вообще сказать, мы еще и теперь любим не совсем по-рыцарски, а исключения ничего не доказывают.
Что ж касается до живого и сходного с натурою изображения сцен простонародной жизни, то не слишком обольщайтесь ими. Мне очень нравится в «Рославлеве» сцена на постоялом дворе, но это потому, что в ней удачно обрисован характер одного из классов нашего народа, характер, проявляющийся в решительную минуту отечества; пословицы, поговорки и ломаный язык, сами по себе, не имеют ничего занимательного. Из всего сказанного мною выходит, что наша народность покуда состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания оных. Всем известно, что французские классики офранцуживали в своих трагедиях греческих и римских героев: вот истинная народность, всегда верная самой себе и в искажении творчества! Она состоит в образе мыслей и чувствований, свойственных тому или другому народу. Я свято верю в гениальность Гете, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком с ним; но, признаюсь, плохо верю эллинизму его «Ифигении»: чем выше гений, тем более он сын своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки с его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагают подделку более или менее неудачную. Итак, есть ли у нас народность литературы в этом смысле?
93
Нет, да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может. Наше общество еще слишком юно, еще не установилось, еще не освободилось от европейской опеки: его физиономия еще не выяснилась и не выформировалась. «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган» мог написать всякий европейский поэт, но «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» мог написать только поэт русский. Безотносительная народность доступна только для людей свободных от чуждых иноземных влияний, и вот почему народен Державин. Итак, наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни. Посмотрим, как успели в этом поэты нового периода нашей словесности.
Начало этого народного направления в литературе было сделано еще в Пушкинском периоде; только тогда оно не так резко выказалось. Зачинщиком был г. Булгарин. Но так как он не художник, в чем теперь никто уже не сомневается, кроме друзей его, то он принес своими романами пользу не литературе, а обществу, т. е. каждым из них доказал какую-нибудь практическую житейскую истину, а именно:
I. «Иваном Выжигиным»: вред, причиняемый России замор- скими выходцами и пройдохами, предлагающими им свои про- дажные услуги в качестве гувернеров, управителей, а иногда и писателей;
II. «Димитрием Самозванцем»: кто мастер изображать мелких плутов и мошенников, тот не берись за изображение крупных злодеев;1
III. «Петром Выжигиным»: спустя лето, в лес по малину не ходят; другими словами: куй железо, пока горячо.2
Повторяю: Фаддей Венедиктович не поэт, а философ практический, философ жизни действительной. Поэтическая сторона его созданий проявляется только в живом и верном изображении мошенничеств и плутней. Долг справедливости требует заметить, что он необыкновенным успехом своих романов, т. е. их необыкновенно удачным сбытом, способствовал много к оживлению нашей литературной деятельности и произвел бесконечное поколение романов. Ему же обязана российская публика и появлением на литературное поприще Александра Анфимовича Орлова.
Народному направлению много способствовал г. Погодин. В 1826 году появилась его маленькая повесть «Нищий», а <в> 1829 — «Черная немочь». Обе они замечательны по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу, а последняя и по прекрасной, поэтической идее, лежащей в основании. Если бы г. Погодин прогрессивно возвышался в своих повестях, то русская литература имела бы в нем такого писателя, которым по спра-
94
ведливости могла бы гордиться. Впрочем, не одному ему принадлежит честь начала народности в повестях: ее разделяли с ним, в большей или меньшей мере, и другие замечательные таланты.
«Юрий Милославский» был первым хорошим русским романом. Не имея художественной полноты и целости, он отличается необыкновенным искусством в изображении быта наших предков, когда этот быт сходен с нынешним, и проникнут необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите к этому увлекательность рассказа, новость избранного поприща, на котором он не имел себе ни образца, ни предшественника, и вы поймете причину его необычайного успеха. «Рославлев» отличается теми же красотами и теми же недостатками: отсутствием полноты и целости и живыми картинами простонародного быта.
«Киргиз-кайсак» г. Ушакова был явлением удивительным и неожиданным: он отличается глубоким чувством и другими достоинствами истинно художественного произведения и между тем принадлежит автору «Кота Бурмосека» и длинных и скучных статей о театре, о польской литературе, о том и о сем, отличающихся беззубым остроумием и забавными претензиями на критический талант и ученость. Что ж делать? «Киргиз-кайсак», в сем отношении, есть не единственное явление в нашей литературе; разве Аблесимов не написал, можно сказать, ненарочно «Мельника», а г. Воейков — «Дома сумасшедших»?..
Последний период был ознаменован появлением двух новых замечательных талантов: гг. Вельтмана и Лажечникова. Г-н Вельтман пишет в стихах и в прозе и в обоих случаях обнаруживает в себе истинный талант. Его поэмы «Беглец» и «Муромские леса» были анахронизмом и потому не имели успеха. Впрочем, последняя из них, при всех своих недостатках, отличается яркими красотами; кто не знает на память песни разбойника: Что отуманилась, зоренька ясная? «Странник», за исключением излишних претензий, отличается остроумием, которое составляет преобладающий элемент таланта г. Вельтмана. Впрочем, он возвышается у него и до высокого: «Искендер» есть один из драгоценнейших алмазов нашей литературы. Самое лучшее произведение г. Вельтмана4 есть «Кощей Бессмертный»: из него видно, что он глубоко изучил старинную Русь в летописях и сказках и как поэт понял ее своим чувством. Это ряд очаровательных картин, на которые нельзя довольно налюбоваться. Вообще, о г. Вельтмане должно сказать, что он уж чересчур много и долго играет своим талантом, в котором никто кроме «Библиотеки для чтения», не сомневается. Пора бы ему наиграться, пора подарить публику таким произведением, какого она вправе ожидать от него: у г. Вельтмана так много
95
таланта, так много остроумия и чувства, так много оригинальности и самобытности!
Г-н Лажечников не из новых писателей: он давно уже был известен своими «Походными записками офицера». Это произведение доставило ему литературную известность; но как оно было написано под карамзинским влиянием, то, несмотря на некоторые свои достоинства, теперь забыто, да и сам автор называет его грехом своей юности.* Но как бы то ни было, а г. Лажечников пользовался по нем славою литератора, и потому все ожидали его «Новика». Г-н Лажечников не только не обманул сих надежд, но даже превзошел общее ожидание и по справедливости признан первым русским романистом. В самом деле, «Новик» есть произведение необыкновенное, ознаменованное печатию высокого таланта. Г-н Лажечников обладает всеми средствами романиста: талантом, образованностию, пламенным чувством и опытом лет и жизни. Главный недостаток его «Новика» состоит в том, что он был первым, в своем роде, произведением автора; отсюда двойственность интереса, местами излишняя говорливость и слишком заметная зависимость от влияния иностранных образцов. Зато какое смелое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и характеров, какое разнообразие картин, какая жизнь и движение в рассказе! Эпоха, избранная автором, есть самый романический и драматический эпизод нашей истории и представляет самую богатую жатву для поэта. Но, отдавая полную справедливость поэтическому таланту г. Лажечникова, должно заметить, что он не вполне умел воспользоваться избранною им эпохою, что произошло, кажется, от его не совсем верного на нее взгляда. Это особенно доказывается главным лицом его романа, которое, по моему мнению, есть самое худшее лицо во всем романе. Скажите, что в нем русского или, по крайней мере, индивидуального? Это просто образ без лица, и скорее человек нашего времени, чем XVII века. Вообще в «Новике» много героев и нет ни одного главного. Виднее и значительнее прочих Паткуль: он нарисован во весь рост и нарисован кистью мастерскою. Но самое интересное, самое любимейшее чадо его фантазии есть, кажется, швейцарка Роза; это одно из таких созданий, которым позавидовал бы и сам Бальзак. Не имея ни времени, ни места, я не войду в полный разбор «Новика», хотя и много мог бы сказать о нем! Заключаю: он обнаруживает в авторе высокий
96
талант, удерживает за ним почетное место первого русского романиста; его недостатки происходят частию оттого, что, как мне кажется, автор смотрел не совсем с прямой точки на эпоху Петра Великого, а главное оттого, что «Новик» был первым его произведением. Судя по отрывкам из его нового романа,1 можно надеяться, что он будет гораздо выше первого и вполне оправдает ту доверенность, которую оказывает публика к его таланту.
Теперь мне остается сказать еще об одном весьма примечательном лице нашей литературы: это автор, подписывающийся Безгласным и ъ. ъ. й. Говорят, что это... но какое нам дело до имени автора, тем более, когда он сам не хочет выставлять его напоказ? Так как он недавно сам объявил о себе, что он ни A, ни B, ни C, то назову его хоть О. Этот О. пишет уже давно, но в последнее время его художественная деятельность обнаружилась в большей силе. Этот писатель еще не оценен у нас по достоинству и требует особенного рассмотрения, которым заняться теперь не позволяют мне ни место ни время.2 Во всех его созданиях виден талант могущественный и энергический, чувство глубокое и страдательное, оригинальность совершенная, знание человеческого сердца, знание общества, высокое образование и наблюдательный ум. Я сказал: знание общества, прибавлю еще, в особенности высшего, и, сдается мне, в этом случае он предатель... О, это страшный и мстительный художник! Как глубоко и верно измерил он неизмеримую пустоту и ничтожество того класса людей, который преследует с таким ожесточением и таким неослабным постоянством! Он ругается их ничтожеством, он клеймит их печатаю позора; он бичует их, как Немезида, он казнит их за то, что они потеряли образ и подобие божие, за то, что променяли святые сокровища души своей на позлащенную грязь, за то, что отреклись от бога живого и поклонились идолу сует, за то, <что> ум, чувства, совесть, честь заменили условными приличиями! Он... но что вам много говорить о нем? Если вы поймете мое энтузиастическое к нему удивление, то лучше поймете и оцените художника; в противном же случае не хочу терять слов понапрасну... Ведь вы, верно, читали его «Бал», его «Бригадира», его «Насмешку мертвого», его «Как опасно девушкам ходить по Невскому проспекту»?..
Г-н Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его "Вечера на хуторе близ Диканьки»? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности? Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды!..
Говорить ли мне о прочих наших романистах и сказочниках: гг. Масальском, Калашникове, Грече и др.? Все они считаются у нас почти гениями! И куда тягаться с ними г. О., о котором
7 В. Г. Белинский, т.
97
я только что говорил выше. Благоговею, дивлюсь и умолкаю, ибо чувствую, что не в силах достойно восхвалить их.
Итак, я насчитал четыре периода нашей словесности: Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский и прозаическо-народ-ный; остается упомянуть еще о пятом, который начался с появления на свет первой части «Новоселья» и который можно и должно назвать Смирдинским. Да, милостивые государи, я совсем не шучу и повторяю, что этот период словесности непременно должно назвать Смирдинским, ибо А. Ф. Смирдин является главою и распорядителем сего периода. Всё от него и всё к нему; он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им лениться, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность. Вы помните, как почтеннейший А. Ф. Смирдин, движимый чувством общего блага, со всею откровенностию благородного сердца, объявил, что наши журналисты потому не имели успеха, что надеялись на свои познания, таланты и деятельность, а не на живой капитал, который есть душа литературы; вы помните, как он кликнул клич по нашим гениям, крякнул да денежкой брякнул и объявил таксу на все роды литературного производства, и как вербовались наши производители толпами в его компанию; вы помните, как великодушно и усердно взял он на откуп всю нашу словесность и всю литературную деятельность ее представителей! Вспомоществуемый гениями гг. Греча, Сенковского, Булгарина, Барона Брамбеуса и прочих членов знаменитой компании, он сосредоточил всю нашу литературу в своем массивном журнале. И что же вышло из этого великого патриотическо-торгового предприятия? Есть люди, которые утверждают, что будто г. Смирдин убил нашу литературу, соблазнив барышами ее талантливых представителей. Нужно ли доказывать, что это люди злонамеренные и враждебные всякому бескорыстному предприятию, имеющему целию оживление какой бы то ни было ветви народной промышленности? Я не принадлежу к таким людям и от души радуюсь, например, «Энциклопедическому лексикону», хотя и знаю, что в составлении оного участвуют гг. Греч, Булгарин и др., хотя и читал послужной список Ломоносова, выдаваемый за биографию сего великого мужа.1 Я имею удивительную способность видеть во всем одну хорошую сторону, не замечая дурных, и на что бы ни смотрел, всегда повторяю мой любимый стих:
И всё то благо, всё добро!2
ибо я убежден сердечно и душевно, верю свято и непоколебимо, вопреки г. профессору Сенковскому, что род человеческий, по воле бдящей над ним любви божией, идет к своему совершен-
98
ству и что не остановить его на сем пути ни фанатизму, ни невежеству, ни злобе, ни Барону Брамбеусу, ибо таковые остановители добра суть истинные его двигатели. Уничтожьте зло, вы уничтожите и добро, ибо без борьбы нет заслуги. Итак, я смотрю на «Библиотеку для чтения» совсем с другой точки зрения: она ни на волос не возвысила нашей литературы, но и не уронила ее ни на волос. Творить всё из ничего может один только бог, а не «Библиотека для чтения»; оживлять можно умирающего, а не несуществующего. Нельзя создать деньгами таланта, нельзя и убить его ими. Где бы ни написали, в каком бы журнале ни помещали своих изделий и сколько бы ни получали за них гг. Греч, Булгарин, Масальский, Калашников, Воейков— они всегда и везде останутся теми же; но г. О. не изменит себе ни в «Новоселье», ни в «Библиотека для чтения». Итак, по моему мнению, «Библиотека для чтения» доказала практически, a posteriori* и, следовательно, несомненно, что у нас нет литературы; ибо, имея все средства, она ни в чем не успела. Это не ее вина; ибо
Как можно, чтобы мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?1
Горе тому художнику, который пишет из денег, а не из безотчетной потребности писать! Но когда он вывел из мира души своей этот бесплотный идеал, который томил и мучил его, когда вдоволь налюбовался и насладился своим творением, то почему не продать ему его?
Не продается сочиненье,
Но можно рукопись продать.2
Другое дело картина: продавши ее, художник расстается с своим созданием, лишается любимого чада своей фантазии; но словесное произведение, благодаря остроумному изобретению Гуттенберга, всегда при нем: почему же дарами природы не вознаградить несправедливости фортуны? Разве не деньгами английские и французские журналы достигли той высокой степени совершенства, на которой мы теперь видим их? Итак, «Библиотека для чтения» виновата не в том, что дорого платит российским авторам, а в том, что надеялась, разумеется, для благосостояния собственного своего кармана, наделать талантов посредством денег. Одна из главных обязанностей русского журнала есть знакомить русскую публику с европейским просвещением. Как же знакомит с ним нас «Библиотека для чтения»? Она укорачивает, обрубает, вытягивает и переделывает на свой манер переводимые ею из иностранных журналов статьи
99
7*
и еще хвалится тем, что сообщает им особенного рода, ей собственно принадлежащую занимательность. Ей и на ум не приходит, что публика хочет знать, как думают о том или другом в Европе, а отнюдь не то, как думает о том или другом «Библиотека для чтения». И потому переводные статьи в «Библиотеке для чтения» не имеют никакой цены. Какие, например, повести переводит она? Изделия госпож Мидфорд и других, пишущих вроде покойника Дюкре-Дюмениля и Августа Лафонтена с братиею. Теперь, какова ее критика? Вам верно известны ее отзывы о сочинениях гг. Булгарина, Греча, Калашникова и гг. Хомякова, Вельтмана, Теплякова и др. При разборе «Черной женщины» критик «Библиотеки» изложил всю систему анатомии, физиологии, электричества и магнетизма, о коих и помину нет в упомянутом романе: признаюсь — чудесная критика!
Какие же гении Смирдинского периода словесности? Это гг. Барон Брамбеус, Греч, Кукольник, Воейков, Калашников, Масальский, Ершов и мн. др. Что сказать о них? Удивляюсь, благоговею — и безмолвствую! Замечу о первом только то, что после известной статьи в «Телескопе»: «Здравый смысл и Барон Брамбеус»—почтенный Барон сначала приумолк, а потом пустился в нравственность на манер г. Булгарина и из подражателя «Юной словесности» учинился подражателем автора Выжигиных.1 Барон Брамбеус есть мизантроп, сиречь человеконенавистник: смесь Руссо с Поль де Коком и г. Булгариным, он смеется и издевается над всем и гонит особенно просвещение. Человеконенавистники бывают двух родов: одни ненавидят человечество, потому что слишком любят его; другие потому, что, чувствуя свое ничтожество, как бы в отмщение за себя, изливают свою желчь на всё, что сколько-нибудь выше их... Без всякого сомнения, Барон Брамбеус принадлежит к первому роду человеконенавистников...
Последний, т. е. 1834 год был ознаменован только появлением двух романов г. Вельтмана и «Димитрием Самозванцем» г. Хомякова: всё остальное не стоит и упоминовения. Г-н Хомяков принадлежит к числу замечательных талантов Пушкинского периода. Впрочем, его драма есть замечательный шаг вперед для автора, а не для русской литературы. Отличаясь многими лирическими красотами высокого достоинства, она очень мало имеет драматизма.
_____
Итак, вот я рассказал вам всю историю нашей литературы, перечел все ее знаменитости от Ломоносова, первого ее гения, до г. Кукольника, последнего ее гения. Я начал мою статью с того, что у нас нет литературы: не знаю, убедило ли вас в этой
100
истине мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том виновато мое неуменье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положение было ложно. В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представители; других покуда нет и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время? И притом, разве они были не случайными явлениями? Посмотрите на историю иностранных литератур. Во Франции вскоре после Корнеля явились Расин, Мольер, Лафонтен и многие другие; потом, в эпоху Вольтера, сколько было знаменитостей литературных! Теперь: Гюго, Ламартин, Делавинь, Барбье, Бальзак, Дюма, Женень. Евгений Сю, Жакоб Библиофил и столько других. В Германии Лессинг, Клопшток, Гердер, Шиллер, Гёте были современниками. В Англии, в последнее время, Байрон, Вальтер Скотт, Томас Мур, Кольридж, Сутей, Вордстворт и столько других явились почти в одно время. Так ли у нас? Увы!.. «Библиотека для чтения» доказала великую и плачевную истину. Кроме двух или трех статей г. О., что вы прочли в ней заслуживающего хотя какое-нибудь внимание? Ровно ничего. Итак, соединенные труды всех наших литераторов не произвели ничего выше золотой посредственности! Где же, спрашиваю вас, литература? У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, т. е. таких людей, для которых писать и жить, жить и писать — одно и то же, которые уничтожаются вне искусства, которым не нужно протекций, не нужно меценатов, или, лучше сказать, которые гибнут от меценатов, которых не убивают ни деньги, ни отличия, ни несправедливости, которые до последнего вздоха остаются верными своему святому призванию. У нас была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романов и повестей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы видимо проходит; теперь терзаем драму. И всё это без причины, всё это из подражательности: когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?
Она наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возращенное на родной почве. У нас нет литературы; я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. Присмотритесь хорошенько к ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я прав. Посмотрите, как новое поколение, разочаровавшись в гениальности и бессмертии наших литературных произведений, вместо того, чтобы выдавать в свет недозрелые творения, с жадностию предается изучению
101
наук и черпает живую воду просвещения в самом источнике. Век ребячества проходит видимо. И дай бог, чтобы он прошел скорее! Но еще более, дай бог, чтобы поскорее все разуверились в нашем литературном богатстве! Благородная нищета лучше мечтательного богатства! Придет время, просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье! Скажите, бога ради, может ли в наше время обратить на себя внимание какой-нибудь недоучившийся мальчик, хотя бы он был наделен от природы и умом, и чувством, и талантом? Этот вечный старец Гомер, если он точно существовал на свете, конечно, не учился ни в Академии, ни в Портике; но это потому, что тогда их и не было; это потому, что тогда учились из великой книги природы и жизни; а Гомер, если верить преданиям, ревностно изучал природу и жизнь, обошел почти весь известный тогда свет и сосредоточил в лице своем всю современную мудрость. Гёте — вот Гомер, вот прототип поэта нынешнего времени!
Итак, нам нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение! И это просвещение не закоснит, благодаря неусыпным попечениям мудрого правительства. Русский народ смышлен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней! И нам ли не достигнуть этой цели, когда правительство являет собою такой единственный, такой беспримерный образец попечительности о распространении просвещения; когда оно издерживает такие громадные суммы на содержание учебных заведений, ободряет блестящими наградами труды учащих и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь к достижению всех отличий и выгод! Проходит ли хотя один год без того, чтобы со стороны неусыпного правительства не было совершено новых подвигов во благо просвещения, или новых благодеяний, новых щедрот в пользу ученого сословия? Одно учреждение сословия домашних наставников и учителей должно повлечь за собой неисчислимые блага для России, ибо избавляет ее от вредных следствий иноземного воспитания. Да! у нас скоро будет свое русское, народное просвещение; мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудном поприще народоправления, являются посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе православия, самодержавия и народности...1
102
Наше общество также близко к своему окончательному образованию. Благородное дворянство наконец вполне уверилось в необходимости давать своим детям образование прочное, основательное, в духе веры, верности и национальности. Наши молодчики, наши денди, не имеющие никаких познаний, кроме навыка легко болтать всякий вздор по-французски, становятся смешными и жалкими анахронизмами. С другой стороны, не видите ли вы, как, в свою очередь, быстро образуется купеческое сословие и сближается в сем отношении с высшим. О, поверьте, не напрасно держались они так крепко за свои почтенные, окладистые бороды, за свои долгополые кафтаны и за обычаи праотцев! В них наиболее сохранилась русская физиономия, и, принявши просвещение, они не утратят ее, сделаются типом народности. Равно взгляните, какое деятельное участие начинает принимать в святом деле отечественного просвещения и наше духовенство... Да! в настоящем времени зреют семена для будущего! И они взойдут и расцветут, расцветут пышно и великолепно, по гласу чадолюбивых монархов! И тогда будем мы иметь свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцев...
____
И вот я не только у берега, а уже на самом береге и, стоя на нем, с гордостию и удовольствием озираю пройденное мною пространство. Нечего сказать, не близкий путь! Зато уж как и устал, как утомился! Дело непривычное, а дорога трудная. Но, любезный читатель, прежде нежели я совсем раскланяюсь с вами, хочу сказать вам еще словечка два. Кто берется судить о других, тот подвергает и самого себя еще строжайшему суду. К тому же авторское самолюбие щекотливее и мстительнее всех других родов самолюбия. Начав писать эту статью, я имел в предмете позубоскалить над современною нашею литературою, и сам не знаю, как зашел в такую даль. Начал за здравие, а свел за упокой. Это нередко случается в делах жизни. Итак, признаюсь откровенно: не ищите в моей элегии в прозе строгого логического порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышления. Я имел целию высказать несколько истин, частию уже сказанных, частию мною самим замеченных, но не имел времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь к истине и желание общего блага, но, может быть, нет основательных познаний. Что ж делать? Эти два качества редко сходятся в одном лице. Впрочем, я не говорил ни слова о том, что было выше моего понятия, и поэтому не коснулся до нашей ученой литературы. Думаю и верю, что для споспешествования успехам наук и
103
словесности всякий может смело и откровенно высказать свои мнения, тем более, если они, справедливые или ложные, суть следствие его убеждения, а не каких-нибудь корыстных видов. Итак, если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнение и уличите меня в ложном взгляде на вещи: я прошу этого, как доказательства вашей любви к истине и уважения лично ко мне, как к человеку; но не сердитесь на меня, если думаете не так. Засим, любезный читатель, поздравляю вас с новым годом и новым счастием... Простите!
* о доброе старое время (франц.).— Ред.
* Боги пали, троны опустели! (Франц.).—Ред.
** «Библиотека для чтения» и «Инвалидные прибавления к литературе».5
* Пощады нет! — Гюго. «Марион де Лорм». (Франц.).— Ред.
** То есть во «Всеобщую историю» г. Кайданова.
* приличному (франц.).—Ред.
* образцовые литературные произведения (франц.).— Ред.
* Истина! истина! ничего, кроме истины! (Франц.).— Ред.
** молчание! (Франц.).— Ред.
* кстати (франц.).— Ред.
* между прочим (франц.).— Ред.
* Платон мне друг, но еще больший мне друг — истина. (Латин.).—
Ред.
* но я всё время возвращаюсь к своим баранам3 (франц.).— Ред.
[1] Исправленная опечатка. Было: «читала, говорила мыслила и молилась».
* без гнева и пристрастия (латин.).— Ред.
* крайних пределов (латин.).— Ред.
* Я разумею здесь мелкие сочинения Карамзина.
* доброе старое время! (Франц.).— Ред.
* Литература наша, без всякого сомнения, началась в 1739 году, когда Ломоносов прислал из-за границы свою первую оду «На взятие Хотина». Нужно ли повторять, что не с Кантемира и не с Тредьяковского, а тем более не с Симеона Полоцкого, началась наша литература? Нужно ли доказывать, что «Слово о полку Игоревом», «Сказание о донском побоище», красноречивое «Послание Вассиана к Иоанну III» и другие исторические памятники, народные песни и схоластическое духовное красноречие имеют точно такое же отношение к вашей словесности, как и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, к санскритской, греческой или латинской литературе? Такие истины надобно доказывать только гг. Гречу и Плаксину, с коими я не намерен вступать в ученые состязания.
2 Исправленная опечатка. Было: «которыми он бывало так красовался и величался».
3 Исправление опечатка. Было: «начиная с коих его могущественное влияние только задерживало успехи нашей словесности».
* полное падение! (Франц.).— Ред.
* Исправленная опечатка. Было: «в коих слышалось бывало то удалое разгулье».
* О мертвых либо ничего, либо только хорошее (латин.).—Ред.
* См. «Пиитические правила» Аполлоса.
* «Человек лорду Байрону» (франц.).— Ред.
* божественная комедия (итал.).—Ред.
** преимущественно (франц.).— Ред.
* Автора «Полициона», «Английского милорда» и других подобных знаменитых произведений.
* крайних пределов (латин.).— Ред.
* Любопытная вещь. Г-н Каченовский, который восстановил против себя пушкинское поколение и сделался предметом самых жесточайших его преследований и нападков как литературный деятель и судия, в следующем поколении нашел себе ревностных последователей и защитников как ученый, как исследователь отечественной истории. Впрочем, это ничуть не удивительно: один человек не может вместить в себе всего; всеобъемлемость ума и многосторонность таланта дается немногим избранным. Поэтому у г. Гоголя читайте его прекрасные сказки, а у г. Каченовского его или написанные под его влиянием и руководством статьи о русской истории, и помните латинскую поговорку: suum cuique (всякому свое — латин.), а более всего мудрое правило нашего великого баснописца :
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.1
Я не ученый и в истории смыслю весьма немного; сужу не как знаток, но как любитель: но ведь не из любителей ли состоит и публика? Поэтому всякое добросовестное мнение любителя должно заслуживать некоторое внимание, тем более, если оно есть отголосок общего, т. е. господствующего мнения. Теперь у нас две исторические школы: Шлёцера и г. Каченовского. Одна опирается на давности, привычке, уважении к авторитету ее основателя; другая, сколько я понимаю, на здравом смысле и глубокой учености. Будучи совершенно невинен в последней, я имею некоторые притязания на первый, вследствие чего мне кажется очень естественным, что настоящее поколение, чуждое воспоминаний старины и предубеждений авторитетов, горячо приняло исторические мнения г. Каченовского. Впрочем, ученая литература не мое дело: я сказал это так, мимоходом, à ргоpos ( кстати — франц.).— Соч.
* по должности (латин.).— Ред.
4 Исправленная опечатка. Было: «г. Велтьмана».
* При сем прошу у почтенного автора «Новика» извинения в неумышленной вине против него. Я очень хорошо знал, что прекрасная песня «Сладко пел душа-соловушко!» принадлежит ему, ибо имел честь узнать это от самого него; вся вина моя в том, что я не совсем обстоятельно выразился.—Соч.1
* на основе опыта (латин.).— Ред.